Главная / Документальная и биографическая литература, Биографии, мемуары; очерки, интервью о жизни и творчестве / Документальная и биографическая литература, Серия "Жизнь замечательных людей Кыргызстана" / Научные публикации, Педагогика, образование; наука как таковая
© Издательство "ЖЗЛК", 2003. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения автора и издателя
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 1 ноября 2008
Каип Оторбаев: На разломе эпохи
(повесть)
Издательство ЖЗЛК начинает выпуск серии книг о замечательных людях Кыргызстана, о тех, кто внес ощутимый вклад в историю страны, кто своей судьбой явил образец достойного служения Отечеству.
Героями книг этой серии станут люди разных эпох, прошлого и настоящего, разных профессий и социального положения. Но объединять их при этом будет одно: их жизнь поучительна, интересна, их деятельность, несомненно, важна для республики.
В первой книге серии рассказывается о судьбе Каипа Оторбаева – известного ученого нашей страны, долгие годы возглавлявшего Киргизский Государственный университет (КГУ)
Публикуется по книге: Каип Оторбаев: "На разломе эпохи". Повесть-хроника. – Б.: 2003. – 430 с.
ББК 84Р7-4
И-20
ISBN 5-66254-040-7
И 4702010201-03
Главный редактор ИВАНОВ Александр
Издатель РЯБОВ Олег
Редакционная коллегия:
АКМАТОВ Казат
БАЗАРОВ Геннадий
КОЙЧУЕВ Турар
ПЛОСКИХ Владимир
РУДОВ Михаил
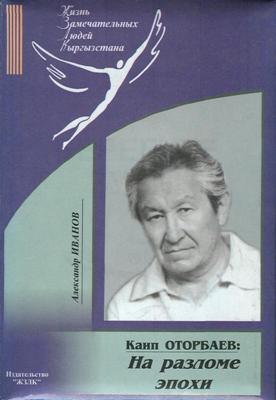
Вместо предисловия
Его характер подстать той могучей стихии — то грозной, то покладистой, что брала его в оборот на протяжении целой эпохи. Какие бы при этом коленца ни выкидывала судьба, он оставался самим собой, не прогибаясь под тяжестью обстоятельств, не озлобливаясь в отличие от многих, несущих свинцовые обиды на время, страну, людей до последних дней своих.
Каип Оторбаев хорошо знаком старшему поколению. Ибо в одной упряжке со сверстниками ощутил тяготы коллективизации, познал на себе мрачное, до озноба, дыхание репрессий, хлебнул лиха на фронтах Великой Отечественной. И еще: снискал популярность среди киргизстанцев того времени, как один из лучших футболистов республики.
Его прекрасно знает и среднее поколение — воспитанники научной школы академика Каипа Оторбаева, студенты Киргосуниверситета восьмидесятых годов, который он возглавлял в ту пору, ученые Академии наук, где он работал директором института, главным ученым секретарем Президиума. Да и нынешним молодым Каип Оторбаев известен своими научными трудами, учебными пособиями по экономической географии, многочисленными статьями в журналах.
На склоне лет, перешагнув порог восьмидесятилетия, оглядываясь назад, словно пловец, далеко и безвозвратно отплывший от берега, он видит, что многое удалось, что силы потрачены не зря. И соотносит жизнь свою с жизнью тогдашней огромной страны по имени СССР и родного Кыргызстана, вспоминает этапы большого пути, окружавших его людей, а также тех, кто руководил страной и республикой в минувшие годы... Его рассказы, его размышления побуждают взглянуть на прошедший век с разных позиций, понять неоднозначность больших и малых событий. Он умеет ценить прошлое, несмотря на жестокие раны, которые оно наносило, умеет радоваться настоящему и верит в будущее. Хотя ему, как говорится, известно, что, где и почем.
Рассказ в книге ведется от первого лица, от лица главного героя — Каипа Оторбаева. Это усиливает достоверность повествования, придает ему зачастую исповедальный характер.
Листая страницы былого...
Еще года два назад, в самом начале нового тысячелетия, мой старший сын Джоомарт неожиданно предложил:
— Отец, у тебя за плечами большая, насыщенная событиями жизнь. В ней, как небо в капле росы, проглядывает целая эпоха. Почему бы тебе не рассказать об этом в книге? Думаю, это было бы интересно. Для многих, к тому же, и поучительно.
Поначалу я отмахнулся. Кому, мол, это нужно? Мало ли такого рода книг понаписано? И потом, как мне, человеку сугубо научного склада мышления, браться за работу, требующую совершенно иного взгляда, иного подхода? В общем, эту тему мы, вроде, закрыли. Во всяком случае, тогда мне так показалось.
Но после этого я стал чаще задумываться о пройденном пути. Считается, что с точки зрения молодости жизнь есть бесконечное будущее; с точки зрения старости — очень короткое прошлое. С первой частью я полностью согласен, а вот со второй... Даже одинаковые по возрасту яблони приносят осенью разный урожай, разные по размеру и вкусу плоды родятся на них. Что уж тут говорить о людях? Да и измеряется прошлое не столько количеством прожитых лет, сколько глубиной оставленных в памяти впечатлений. Прошлое напоминает мне гармошку: вон как при вдохе растягиваются ее меха! Или, скорее, горный поток, который можно, зная, откуда он берет начало и куда стремится, окинуть мысленным взором, но повернуть вспять — никогда.
Чего только я ни испытал, чего только ни происходило на моем веку. Лишь своему злейшему врагу китайцы желают жить во времена перемен. А за восемь десятков прожитых мною лет перемены в нашей стране творились сплошь и рядом. Об одних вспоминается с болью, о других с радостью, о третьих с грустью или недоумением.
Но чего нет в воспоминаниях, так это безразличия, отстраненности, возникающих обычно при взгляде на что-то малоинтересное, чужое. Оно и понятно. Ведь все, что было с моей страной, было, значит, и со мной, проходило через мое сердце. И не исчезло бесследно, растворившись в минувшем, а осталось, продолжает жить во мне. Как и люди, на встречи с которыми так щедра оказалась моя судьба. Память бережно хранит их имена, их облик. Иной раз потускневший, как на старой фотографии, а иной раз четкий и ясный, словно только что запечатленный. Увы, память избирательна, она не меряет всех под одну гребенку.
Разговор о книге возобновлялся неоднократно. Джоомарта поддерживали и мои друзья. В конце концов, говорили они, у каждой книги свой читатель. Ибо в любом рассказе очевидцев, современников ушедшей эпохи непременно присутствует свое видение прошлого, своя неповторимая, окраска событий. Люди ищут в книгах не только ответы на свои вопросы, но и близости, состыковки их взглядов на те или иные события прошлого с взглядами автора, героя книги. Портрет эпохи складывается из великого множества штрихов; и каждый, кому есть что сказать о времени и о себе, непременно должен сделать это.
Как тут не согласиться? Тем более, что подрастают внуки, для которых мое время будет столь же далеким и загадочным, как какие-нибудь острова в необъятном океане: прочитать о них еще можно, а вот побывать... Представляю, с каким интересом прочел бы я сам рассказ моего отца или деда об их жизни в мельчайших подробностях! Но разве они имели такую возможность — поведать о ней в книге? Увы...
Молодость характерна поступками, решительными действиями. Старость, подводя итоги, тяготеет к размышлениям. Так бывает с рекой, которая в низовье, в устье своем, теряет стремительность, но обретает спокойствие и глубину. Верно замечено: всему свое время — разбрасывать камни и собирать их, совершать поступки и предаваться размышлением над ними.
Идя от истоков своей жизни к ее устью, я старался внимательно, не упуская ничего существенного, проследить ее естественное движение в общем потоке времени, эпохи и понять, разобраться в том, что происходило со мной, да и не только со мной, за эти многие, многие годы.
Помогал мне в этом писатель Александр Иванов. Итак...
Глава I
Верный — начало моего детства
Мое появление на свет, как мне потом рассказывали, было тихим и скромным. Родители побаивались, чтобы меня не постигла участь их шестерых сыновей, моих старших братьев, умиравших вскоре после рождения или совсем в раннем возрасте. Поэтому они решили отметить это событие только небольшим кругом самых близких соседей — киргизов, казахов и татар, а не устраивать пышный той, который мог бы привлечь внимание злых сил.
Отец, Оторбай Куланбай уулу, пригласил на торжество молдо, он-то и дал мне имя — Каип Мухам¬мед, означающее как бы нечто неземное, несуществующее и, следовательно, отторгающее смерть.
И все-таки боязнь потерять меня у родителей оставалась. На какие только ухищрения ни пускались они, чтобы меня не сглазили! Поскольку злые духи не тронули, оставили в покое мою старшую сестру Акиму, мама, надеясь обмануть их, стала одевать меня в девчоночье платье, не стригла волосы, заплетала косички, правое ухо мне прокололи и надели золотую серьгу.
Сейчас я с улыбкой вспоминаю об этом, хотя тогда... Почти до пяти лет Акима постоянно находилась рядом со мной, оберегала от неприятностей, старалась оградить от колкостей со стороны соседских мальчишек, для которых мой наряд был, конечно, хорошим поводом позабавиться, позубоскалить. И только когда Акима вышла замуж, а была она на пятнадцать лет старше меня, я почувствовал себя уже более самостоятельным и перестал носить несвойственную мне одежду.
Та же причина побуждала моих родителей не отмечать в ту пору дни моего рождения. Но сами по себе и этот день, 22 апреля, и этот год, 1922, были для моей страны, для всей эпохи весьма знаменательными.
Родиться в один день с великим Лениным считалось хорошим предзнаменованием. Еще бы! Вождь революции, открывший эру социализма, был примером для моего поколения. Уже после смерти Ленина этот день отмечался торжественными собраниями и массовыми субботниками. Так что мне, когда я подрос, оставалось только присоединиться к этим мероприятиям. В свой день рождения вместе со всеми я обычно участвовал в субботнике по уборке территории, посадке деревьев, облагораживая, таким образом, свой родной город, а уж потом садился к накрытому в мою честь столу.
Ленинские субботники были доброй традицией, они сплачивали людей, создавали атмосферу праздничного труда — с задорной песней, весельем. Жаль только, что уже перед закатом социализма эта традиция выродилась, превратилась в своего рода обязаловку, а затем и вовсе угасла.
Что же касается 1922 года, то в нем выделяются два рубежных, полюсных события. 30 октября был установлен фашистский режим в Италии, а ровно через месяц после этого на Всесоюзном съезде Советов Сталин зачитал Декларацию об образовании СССР. Эти два события играли решающую роль на протяжения всего минувшего века. Рожденный одновременно с ними, я, когда по возрасту подошел мой черед, отправился воевать с фашизмом, до победного конца боролся за его уничтожение.
Судьба распорядилась так, что я пережил и распад СССР, пережил, правда, с печалью и тревогой в душе. До сих пор рассматриваю этот распад, как большую утрату, как серьезный просчет тех, кто стоял тогда во главе страны. Сделано это было вопреки воле народов большинства республик, в том числе и Кыргызстана. И потому особенно огорчительно.
Но вернемся к тем временам, когда я был еще мальчишкой и жил в городе Верный (так называлась нынешняя Алматы). Отец занимался предпринимательством, что позволяло нам не бедствовать, числиться в ряду вполне состоятельных людей. Дома я его видел редко. Обычно он находился в разъездах. И не только по Киргизии, Казахстану, но и по Китаю — везде, где у него были налажены связи.
Коммерсанта, как волка, ноги кормят, — шутил отец. Высокий, худощавый, с черными усами и бородой, он был легок на подъем. Вечером сидит с семьей, друзьями за достарканом, ведет неторопливые беседы, а наутро открою глаза — его уже нет, Оторбай-ата уже в дороге. Вспомнится только, как сквозь сон слышалось позвякиванье уздечки, тихое ржанье его поджарого, тонконогого коня и удаляющийся цокот копыт по мощеной булыжником мостовой.
Он, как многие тогда и сейчас, промышлял торговлей. И, судя по всему, вел это дело толково, был расчетлив и удачлив, коммерция, очевидно, приносила неплохой доход. Он и братьев своих, Орозбека и Сулайманкула, многому научил, помог им встать на ноги, обзавестись хозяйством.
По тем временам дом наш, расположенный почти в центре Верного, был достаточно просторным, имел несколько комнат. Да и в комнатах было свободно — никакой мебели. Только низенький столик, который накрывался белой, в голубую полоску скатертью, когда садились вокруг него, поджав под себя ноги, обедать. Вдоль стен высились стопки разноцветных одеял, подушек, которых хватало, чтобы уложить спать десять-пятнадцать человек. Полы в доме были теплые, по толстой трехслойной кошме мы с Акимой даже зимой ходили босиком.
В прилегающем к дому большом дворе, огороженном невысоким забором, стояла юрта. Рядом с ней простирало к небу свои корявые темные ветви урюковое дерево — единственное на весь двор. Ранней весной оно бывало усыпано бело-розовым цветом и создавало ощущение праздничности. Ну, а летом кто-нибудь из взрослых залезал на него и начинал изо всех сил трясти. Земля сплошь покрывалась желтоватыми, сочными плодами, многие из которых, ударившись, лопались пополам. Для детей это было объеденье, кожа на вздувшихся животах натягивалась, как на барабане. Соседские пацаны, которые прибегали сразу, едва раздавался стук урюка о землю, наедались вволю и хвастались друг перед другом — кто звонче бьет ладонями по животу.
У нас останавливались приезжие из Каракола, Токмока, Таласа, кто-то на один день, кто-то до тех пор, пока не завершал свои дела. В основном, это была молодежь. Когда, очутившись в Верном, они спрашивали, где можно переночевать, им обычно отвечали: "Идите к Оторбаевым" или "Казан у Оторбаевых полон для гостей". Вот к нам все и поворачивали. Запросто, безо всяких церемоний.
Молодежь знала: у Оторбаевых всегда можно найти и еду, и крышу над головой. Это здорово облегчало жизнь молодым. Особенно, если им предстояла учеба, и каждый грош в кармане был на счету.
То было время НЭПа, предложенной Лениным новой экономической политики, благодаря которой, дав волю предприимчивым людям государство намеревалась начать резкий экономический подъем. Так оно и вышло. Тогдашних темпов роста в стране Советов никто в мире до сих пор превзойти не смог. Спустя десятилетия, во второй половине восьмидесятых, Горбачев попытается повторить ленинский план, однако эффект получится несравнимо ниже. И экономическая почва, и люди будут другие. Перефразировав Гераклита, можно сказать, что в историю, как в одну и ту же реку, нельзя войти дважды, с одинаковым результатом.
Тяга к предпринимательству, желание учиться, чтобы стать полезным своему народу, — все это в СССР, делавшем свои начальные шаги, находило отзвук почти в каждой семье. В городах жизнь бурлила, да и в селах постепенно выходила из привычных болотистых берегов. Люди больше общались, интересовались политикой, культурой, перестали опасаться друг друга, как в первые годы после революции. Они еще не знали, что это ненадолго...
Помимо близких отцу по роду занятий предприимчивых людей останавливались в нашем доме, когда мы жили в Верном, и Касымалы Баялинов, и Жусуп Абдрахманов, и Токчоро Джолдошев... Какие разговоры они вели, какие захватывающие планы они строили! И не только своей собственной жизни, но и жизни всей родной Киргизии.
Интересно, что не будь мои родители такими гостеприимными, хлебосольными, и моя судьба могла бы повернуться по-иному. Токчоро Джолдошев был семнадцатилетним парнем, когда, впервые заглянув к нам, познакомился с Акимой, в ту пору совсем еще девчонкой. Никто и думать не думал, что спустя несколько лет они поженятся, а потом и меня заберут к себе.
Естественно, все заботы по дому ложились на плечи матери. С утра до вечера ей приходилось готовить еду, мыть посуду, заниматься уборкой, обстирывать домашних.
Все у нее ладилось, все делалось быстро, как бы само собой. Я-то маленький был, а сестра говорила, что ни разу не слышала, чтобы мать жаловалась, упрекала отца: вот, мол, из-за твоих гостей я без конца верчусь, верчусь, ни сна нет, ни отдыха. Ведь у кыргызов испокон веку все по дому делают женщины. И она воспринимала многочисленные заботы не как тяжкое бремя, а как неотъемлемую часть самой жизни.
Говорили, что из всех снох моего деда Куланбая мать была самой трудолюбивой. За это она пользовалась общим расположением, все хорошо к ней относились, особенно родители мужа. А я, вспоминая маму, более подходящим, более точно определяющим ее характер считаю слово — трудовая. Именно трудовая, а не трудолюбивая. Ведь чтобы любить, надо свой труд ценить, она же не замечала своего труда, просто жила им, как воздухом, по-другому и не умела.
Нам часто приходилось переезжать. И везде, будь то большая квартира или крохотный сарайчик, мама все так устраивала, создавала такой уют, что мы сразу чувствовали себя дома, в своей родной обстановке.
А еще она была стройной и красивой, как все матери на свете. И имя у нее, дочери Байтерека, было редкое, звучное и красивое — Данапия...
Что я знаю о прошлом своих родителей? К сожалению, очень мало. Мои сведения отрывочны и скупы. Оба они из Кемина. По тогдашним обычаям их поженили, когда матери было 14 лет и примерно столько же — отцу. Все за них решали родители — где, когда и как провести той, кого на него пригласить.
Мать рассказывала, как они с отцом участвовали в состязаниях "Кыз-куумай" — обязательных на свадьбах конных скачках молодоженов, без которых не проходило ни одно торжество такого рода. "Кыз-куумай" считался своеобразным символом соединения молодоженов.
По традиции с определенного места вперед выезжает девушка, а уж потом джигит. Иногда девушка специально придерживает коня, тем самым как бы показывая, что очень сильно хочет выйти замуж. Моя мать не собиралась поддаваться. Она сразу пришпорила коня и, как рассказывала, честно пыталась умчаться от отца. Но он все-таки сумел догнать ее и слегка хлестнуть камчой, что означало победу жениха — он одержал верх и невеста должна ему покориться.
Знать, неплохой наездник был мой отец. Потому как во время состязаний победу приносит не столько резвость и выносливость скакуна, сколько ловкость и сноровка всадника в управлении конем. Передержал коня — проиграл, не удержал его — тоже проиграл. Умение найти, как говорится, золотую середину, важно и для джигита.
Мне почему-то подумалось, что случается нечто подобное, когда родители выпускают детей из-под своей опеки. Ранняя свобода может разбаловать, распоясать ребенка; много тогда печали и хлопот доставит он родителям. А с другой стороны, если слишком долго ребенок находится под неусыпным контролем — жди беды, не станет он самостоятельным человеком, будет вечно за материнскую юбку цепляться.
Наверное, у моих родителей было в этом смысле особое чутье, знали они меру и толк в воспитании. Несмотря на раннюю смерть отца, на то, что потом мать воспитывала меня с сестрой одна, мы не подкачали, выросли, как мне представляется, людьми достойными своего времени.
Еще меньше, чем о родителях, я знаю о своем деде Кулан-бае. Был он современником знаменитого Шабдан-батыра, вместе с ним совершал хадж в Мекку. А хадж тогда совершался либо пешком, либо на коне. Тысячи километров пути через пустыни и горы выдерживали только мужественные, сильные телом и духом люди. Должно быть, крепко верили они в Аллаха, потому и решались на хадж. Это не то, что ныне: сел в комфортабельный самолет — и через три часа ты уже на месте. Тут человеком может двигать не столько истинная вера, сколько любопытство или амбиции, поддерживаемые тугим кошельком. Через многие десятилетия мне самому доведется узнать сколь различны устремления тех, кто направляется в Мекку.
Несмотря на все трудности тогдашнего пути, Куланбай-чон ата не ограничился одной поездкой в это святое для мусульман место. Через несколько лет он отправился туда опять. Но во время второго хаджа, находясь уже в почтенном возрасте, дед умер. Знаю также, что был он волостным управителем Чон-Кеминской долины, пользовался уважением среди кеминских племен.
Как ни жаль, но нет у меня достоверных сведений о моей бабушке по отцовской линии. Она ушла из жизни, когда я был еще совсем маленьким, а после мне некому было о ней рассказать. Или, возможно, я проявил для этого недостаточную пытливость...
Напрашивается вопрос: как же мои родители, имеющие корни в Кемине, оказались совсем в другом краю, в городе Верном? С этим связана большая история. Правда, о том, как коснулась эта история моих отца и матери, мне тоже известно лишь в самых общих чертах.
Как родители оказались в Китае
Всю жизнь большинству моих сородичей поломал 1916 год. До этого в недрах народа зрело недовольство. Оно поднималось медленно и неотвратимо, как поднимается кипящее молоко. Всему виной была несправедливая колониальная политика российского царизма. Коренные жители, кыргызы, всячески притеснялись. У них изымались лучшие земли и передавались переселенцам, прибывающим сюда из России да Украины.
В результате сложилось положение, когда, скажем, в Пржевальском и Пишпекском уездах русские и украинцы, составляющие около четверти всего населения, имели почти семьдесят процентов пахотной земли.
Кому понравится такая диспропорция? Даже Туркестанский генерал-губернатор Куропаткин признавался тогда, что кыргызы были самыми бесправными в пользовании землей. За долги уездным властям у них в первую очередь отнимали и продавали тем же переселенцам земельное имущество. Вот и началось, постепенно усиливаясь, брожение среди кыргызов.
А тут еще появился царский указ от 25 июня 1916 года о мобилизации мужчин из местного населения на военно-тыловые работы. Этот указ сработал как факел, поднесенный к пороховой бочке. И без того кругом беднота, а заберут самых крепких мужчин, что останется? Ложиться и помирать? Нет, с этим никто не хотел мириться.
В Чуйской долине восстание вспыхнуло в начале августа в районе Беловодска, Пишпека и Токмака. Затем перекинулось на Атекинскую и Сарыбагышскую волости Кеминской долины. И вскоре заполыхало повсеместно — от Оша до самого Пржевалъска.
Опыт показывает: одна несправедливость рождает другую, а та, в свою очередь, третью, еще более чудовищную. Небеса даруют нам равновесие, а люди, нарушив его, никак не могут остановиться. И страдают, как правило, не те, кто нарушает, а те, кто оказывается под боком у самих обиженных.
Восставшие не могли добраться до ставленников царя, которые проводили политику перекосов и жестокого гнета. Их гнев обрушился на простых переселенцев, на тружеников. Колониализм царизма восставшие отождествляли, увы, со всеми пришлыми русскими и украинцами, живущими здесь, работающими на этой земле. Трагичными были последствия внезапных нападений повстанцев на переселенческие поселки. Немало погибло ни в чем не повинных людей.
Но куда более жестокой и кровавой была карательная акция. Восстание было разгромлено, его участники уничтожены, однако царские войска продолжали бойню. Вооруженные пулеметами и артиллерией, они легко подавляли сопротивление по сути безоружных людей, имеющих в лучшем случае "мильте" — ружье с фитилем. Каратели даже не брали повстанцев в плен, а их зимние стоянки безжалостно разоряли. По пути расправлялись они и с населением аилов.
Свободолюбие и терпимость в крови у моего народа. Но какой выход оставался у тех, кто не хотел быть истребленным и, вместе с тем, не имел возможности сопротивляться? Какое-то время еще жила надежда на то, что войска прекратят насилие, перестанут убивать мирных жителей. Но каратели, словно закусив удила, никого не щадили. Оставалось одно — бежать от них как можно дальше, за тридевять земель, где они не смогут достать. Оставалось бежать в Китай. Вместе со всеми устремились на чужбину и мои родители.
Ни в каких восстаниях ни отец, ни мать не участвовали. Они работали, растили детей. Хоть и была жизнь в Кемине трудной, но это был их родной край, и они думали, как всегда думается в таких случаях, что со временем станет лучше. Однако наступил час, когда им пришлось бросить все нажитое и отправиться в неизвестность.
Толпы народа покидали родные места. А их преследова¬ли, в них стреляли. По подсчетам туркестанских чиновников, коренное население Северного Кыргызстана в тот черный год сократилось на сорок с лишним процентов. Почти 150 тысяч человек бежало в Китай, было убито или пропало без вести.
Вместе с кеминцами, иссыккульцами уходили и мои родители. Уходили через крутые горные перевалы и ледники. Весь этот путь устлан костями моих соплеменников. Кто-то угодил в пасть ледниковых трещин, кто-то свалился в обрыв, кого-то подстерегла болезнь. Но и те, кто выжил, как мои родители, находились в угнетенном состоянии духа. Ведь что может быть хуже, больнее, чем изгнание с родной земли... Сколько страданий, лишений выпало на их долю! Один за другим умирали их дети, мои братья, которых я так никогда и не увидел. А потом еще и мучительные скитания на далекой чужбине...
Только после Октябрьской революции, когда царизм был свергнут, моим родителям удалось вернуться в родные края. Но прежнее место их обитания оказалось полностью разграбленным. Они поселились сначала возле Токмока, а потом перебрались на казахскую территорию, в Верный.
Вот так эта трагедия кыргызского народа впрямую коснулась моих родителей, а, значит, и меня самого. Они потеряли детей, а я — братьев. С тех пор отца преследовала болезнь, о которой он, как единственный кормилец, старался не говорить. Ему приходилось много работать. Но болезнь изнуряла, подтачивала его, чтобы однажды свалить, одолеть.
Вспоминая всю эту историю, я невольно думаю, какую важную роль в жизни народа играет его родная земля, какой бедой все может обернуться, когда кто-то пытается несправедливо распорядиться ею, в ущерб этому народу. Ведь если бы царские чиновники наделяли переселенцев землей не вопреки интересам кыргызов, изначально имеющих на нее права, а хотя бы соблюдали определенную паритетность и не допускали диких перекосов, то этой трагедии, думается, скорей всего бы и не было.
Как скверно, что в последующем печальный опыт 1916 года властями Кыргызстана предавался забвению. Иначе не случился бы у нас 1990 год, когда в Ошской области несправедливый раздел земли, допущенный по вине руководства тогдашнего обкома партии, привел к раздору, кровавому конфликту между кыргызами и узбеками. Раздору, который с большим трудом удалось погасить.
Господи, разве можно быть столь беспамятными! Говорят, что умные люди учатся на чужих ошибках, а глупые — на собственных. Но мы-то даже из собственных ошибок не извлекаем должного урока!
И еще в этой же связи перед глазами такой, сравнительно свежий, эпизод. Мальчишка-кыргыз лет четырнадцати-пятнадцати дал пощечину своему русскому сверстнику за то, что делало царское правительство с кыргызами в 1916. Они о чем-то заспорили, и он влепил пощечину, дескать, в отместку за сотворенное царскими войсками зло.
Того мальчишку отругали старики. С тех пор, мол, сколько воды утекло. Да и не отвечает рядовой представитель одного народа за действие своих властей, направленных против другого. Каждый отвечает за свои собственные действия.
Да, это так. И все-таки нужно учитывать, сколь длительным может быть отчуждение между людьми разных национальностей, если в этой хрупкой сфере допускаются подобного рода промахи, нарушения. Преднамеренного или неп¬реднамеренного характера. Особенно, если они охватывают массы людей.
В своей жизни, чем бы я ни занимался, где бы ни работал, всегда старался помнить об этом. Для меня, прежде всего, каков человек, что он из себя представляет, как личность, а уж потом все остальное. Вот почему, наверное, среди моих друзей и учеников — и кыргызы, и русские, и узбеки, и представители других народов, населяющих наш Кыргызстан.
Глава II
Возвращение на Родину
О переезде из Верного в Пишпек, как называлась в ту пору столица Киргизии, у меня сохранились смутные, размытые воспоминания. Они сотканы, подобно ковру, на основе тех детских впечатлений, которые рождались при подготовке к переезду, во время самой поездки, а также из рассказов старших, прежде всего, матери и сестры Акимы.
Уже до этого в воздухе чувствовалось напряжение, что-то происходило, скрытое от посторонних глаз и ушей. Приняв решение отец посвятил в него только мать, а уж она поверьте, могла держать язык за зубами. Вообще родители не любили, чтобы дело плелось в хвосте разговоров и пересудов. Должен быть найден покупатель, с ним ударяют по рукам, назначается срок, когда дом освобождается для него, и только потом идут сборы, в которые вовлекается все больше народу.
И вот наступил день, когда в нашем доме поднялась невообразимая суета. Без конца хлопали двери, звенела подготавливаемая к упаковке посуда, увязывались и выносились какие-то тюки, от хождения многих ног и постоянных сквозняков подрагивали и тонко голосили оконные стекла, то и дело возникали разного рода неувязки, слышались возбужденные споры... Взрослые говорили отрывисто, быстро и громко, а не как обычно, когда их речь лилась, будто спокойный ручей.
У всех были свои обязанности. На меня не обращали внимания. Бегай, где угодно, делай, что хочешь, только не путайся под ногами. Я то забирался на груды одеял в каком-нибудь углу комнаты и оттуда наблюдал за работой взрослых, то носился по двору, уставленному подводами с томящимися неподалеку и фыркающими лошадями.
Отец командовал и сбором вещей, и распределением их по подводам. Рядом с ним ходил сухонький коротконогий дунганин с широким, как степь, лицом. Он едва доставал отцу до плеча, и когда отец делал один шаг, ему приходилось делать два, а то и три, чтобы не отстать.
Все перевозки на дальние расстояния были в те времена в руках у дунган, именно они имели добротные подводы, соответствующую упряжь, подготовленных для этого лошадей; и тот, кто находился рядом с отцом, был среди них главным. Оторбай-ата показывал ему, что из вещей нужно грузить в первую очередь, что во вторую. Дунганин важно кивал, соглашаясь, и цокал при этом языком. Его помощники тут же хватали вещи и грузили их на подводы. Делали они это легко, уверенно, чувствовалась у них сноровка в такой работе.
К вечеру дом опустел, все его содержимое перекочевало, в основном, на подводы. Оставили только самое необходимое, чтобы мы могли здесь же переночевать, а ранним утром отправиться в путь.
Дома стало голо, неуютно. Мать и вторая жена отца, токол, которую, помнится, звали Абия, растерянно бродили по комнатам. Они ведь старались, чтобы в доме все блестело, было чисто, аккуратно, а тут сам черт ногу сломит. Наводить порядок в такой обстановке бессмысленно, теперь уже этим займутся новые хозяева.
Данапия-апа не придиралась к токол, не шпыняла ее за нечаянно разбитую пиалу или слово, сказанное невпопад. Уважая отца, который во время частых поездок в Китай нашел себе вторую жену в Ак-Суйском районе Прииссыккулья, она относилась к ней по-доброму, на правах старшей приучала ее к нескончаемой домашней работе. Мать со всеми находила общий язык. Я не слышал, чтобы Абия когда-нибудь перечила ей.
Когда я потом задумывался, какие из родительских черт характера мне хотелось бы иметь, то выходило так: решительность, твердость, умение везде добиваться порядка — это от отца, и доброта, трудолюбие — от матери. Насколько это с годами удалось, не мне, конечно, судить. Но с самого детства хотелось именно так.
Выезжали из Верного ранним утром, чуть ли не затемно. Стояла осень, срединная осень стлалась над миром. Сначала было зябко, и я кутался в старый отцовский тулуп, от которого шел запах овчины и дальних странствий. Но когда город остался позади, и вдоль дороги потянулась степь, изрытая местами оврагами, небо стало наливаться сильным и сочным светом.
За нашей спиной вставало солнце, простирая свои лучи в ту сторону, куда лежал наш путь. Мы ехали на свою Родину, в Киргизию. В страну моих предков, а, значит, и мою страну. Это была первая дальняя для меня поездка, знаменательность которой я осознал гораздо позже.
Впрочем, тогда между Кыргызстаном и Казахстаном не было четкого государственного деления с пограничными столбами, шлагбаумами и таможенными службами. Была одна единая страна, СССР, с общими для всех, кто в него входил, законами и положением. Переезжать из одной республики в другую было так же просто, как нынче, скажем, из Чуйской области в Иссык-Кульскую. Ни тебе виз, ни новых паспортов, ни таможенного досмотра. Да и не существовало особой разницы — кыргыз ты или казах. Тем более, что наши народы, как два крыла одной птицы. Никто и не думал об их разделении, размежевании.
Мое поколение родилось свободным, хотя об этом не трещали на каждом углу. Мы чувствовали себя хозяевами огромной державы. Именно в те годы возникло у нас уникальное понятие большой и малой Родины. Если посмотреть непредвзято, то среди наций не было избранных и второсортных. Существовала масса установок в пользу национальных кадров каждой республики. И была искренняя межнациональная дружба, все советские люди были товарищами.
Нет, я не славлю советскую систему во всех ее проявлениях. Мне довелось на себе испытать немало из того, что современная молодежь с содроганием узнает по исторической литературе. И об этом еще пойдет речь. Но я бы не хотел, чтобы за ошибками, заблуждениями советской системы, не имеющей прецедентов во всей истории человечества, исчезло, забылось то бесспорно ценное, что она явила всему миру.
Ничего страшного, если человек, обжегшись на молоке, дует на воду. Но если при этом он будет напрочь, категорически отрицать достоинства самого молока — тут уж ничего, кроме вреда, ждать не приходится. А у нас любят чернить все советское, чтобы то, что творится сегодня, не выглядело безрадостным. Хотя известно: пиная прошлое, никогда не дождешься улыбки от будущего.
Может быть, поэтому и не удается выстроить истинное Содружество независимых государств — действительно с тесным, взаимовыгодным сотрудничеством? Ведь признав, что хотя бы отдельные конструкции советской системы крепки и заслуживают использования в настоящем, руководители наших государств должны будут всерьез озаботиться урезанием своих собственных властных полномочий ради общих целей сотрудничества. Но, вкусив по сути безграничной власти, кто с легкостью откажется даже от части лакомого пирога?
Дружба между республиками, которая была искренней и бескорыстной, утратила свое значение. Раньше мы жили в большой и доброй "коммуналке", а теперь обрели отдельные комнатушки и наглухо заперлись в них. И рады — стали полновластными хозяевами. Но разве все обостренней нами не ощущается ограниченность в возможностях нашей, хоть и богатой по природным ресурсам, но все-таки одной республики? Увы, не опереться уже на дружеское плечо такой обширной и весьма разнообразной в географическом отношении страны, как Советский Союз.
По обилию топлива, гидроресурсов, рудных и нерудных полезных ископаемых, лесов и сельскохозяйственных земель он занимал первое место в мире.
Из этого общего казана и черпал каждый свою долю. Отсюда и стремительность экономического, социального и культурного подъема всех советских республик. Только промышленность Кыргызстана за семьдесят лет в составе СССР выросла в 333 раза! И где это теперь? Пущено по ветру, рожки да ножки остались. Зато, считается, сами себе голова.
Но я отвлекся от нашего путешествия. Что делать, если детские воспоминания перемежаются порой с нынешними моими рассуждениями... Дорога была тряской, в рытвинах и ухабах. До нее еще не дошли руки у новой, советской власти. Подводы двигались медленно, поскрипывали колеса, навевая сон. Отец иногда слезал с телеги и шел рядом, чтобы размяться. Высокий, стройный, он шел легко, размахивая руками, и его черная борода развевалась на ветру. Мне было приятно, что у меня такой сильный отец. Нравилось, когда он пел на кыргызском языке, оборачиваясь в мою сторону и подмигивая. А песни у него всегда были с особым смыслом, со значением. Он пел:
Всегда собой владей, джигит,
Не обижай людей, джигит,
Знай, что они — твоя опора.
Без них ты — всех слабей, джигит.
Пусть даже воспоет акын,
Тебя, достигшего вершин,
Не зазнавайся и не думай,
Что из достойных ты один.
От горя ты не убегай,
Оно догонит, так и знай.
Храни достоинство и в горе,
И у ворот, ведущих в рай.
Хвалу в свой час принять умей.
Хулу услышишь — не робей,
Тем, кто тебя понять не может,
Не открывай души своей.
Оружие акына — речь,
Язык джигита — это меч.
Мы все умрем, и только имя
От смерти можно уберечь.
Пройдут многие годы и эта песня, которую я тогда не очень-то понимал, еще не раз всплывет в моей памяти. Как и образ отца, широко шагающего сбоку телеги и поющего эту прекрасную и мудрую кыргызскую песню.
Когда на ходу он поворачивался в мою сторону, его обычно строгое лицо смягчалось, от него веяло теплом и спокойствием. Все-таки после всех передряг я оставался у него единственным сыном. Жаль, но таким крепким, жизнерадостным я его больше не видел. В дороге нас поджидала беда, которая не сразу, не вдруг, но перевернет всю нашу жизнь.
Дни становились все короче. Едва на землю опускались сумерки и вместе с ними из-за гор налетали ветры, извозчики подыскивали пристанище для ужина и ночлега. Перегоны были невелики, от Верного до Курдая три-четыре ночевки, и столько же от Курдая до Пишпека. С учетом этого вдоль дороги и лепились саманные постройки, называемые караван-сараями. Там путнику всегда могли предложить горячий чай, шорпо и общую комнатенку, где уставший народ спал вповалку.
Все случилось неожиданно, на горном перевале, к которому мы подъехали не то в тумане, не то в ранней подступающей тьме. Еще до этого заморосил холодный дождь, вскоре он перешел в густой липкий снег, и дорогу быстро покрыло скользкой и жидковатой кашицей. Под порывами ветра она твердела, превращаясь в льдистую корку.
На Курдай поднимались медленно, лошади выбивались из сил. Я лежал, плотно упакованный в отцовский тулуп, и только глаза да нос выглядывали наружу.
Достигнув верха перевала, извозчики повеселели. После непродолжительного спуска можно будет отдохнуть и обогреться в прилепившемся у родника караван-сарае.
Дорога на спуске шла серпантинами. Поначалу достаточно пологими, и лошади прибавили шаг. Но при повороте на очередной серпантин, кучер первой подводы не учел его крутизны, не притормозил, как полагается, и лошадь понесло! Не будь так скользко, кучер тут же поправил бы положение. Но деревянный кол с заостренным наконечником, который использовался для торможения, при набранной скорости соскальзывал с поверхности дороги. Да и подковы у лошади были, видимо, изрядно стертые. В общем, ее несло и она, не вписавшись в следующий поворот, могла уйти в пропасть вместе с подводой.
Никто даже не заметил, как спрыгнул с подводы и метнулся вперед мой отец. Метнулся, сбросив даже чапан, чтобы не мешал бегу, и оставшись в одной рубахе. Он догнал лошадь, схватил за поводья у самой ее морды и буквально повис на них, изо всех сил разворачивая лошадь на себя, в сторону от гибельного съезда в пропасть. Растерявшийся было извозчик тут же сориентировался и вогнал деревянный тормозной кол в мерзлую землю. Подвода на какое-то мгновение остановилась намертво, а затем продолжала медленно, боком ползти по дороге.
Испуг у лошади долго не проходил. И отцу почти до самого конца спуска пришлось вести ее под уздцы. Поскольку было темно, мать, ехавшая на следующей подводе, не видела, что он оказался под снегом в одной рубахе. И он сам, разгоряченный, обратил на это внимание слишком поздно.
Отец и прежде покашливал. Говорили, что сказывался тот давний уход от царских карателей через ледники в Китай. Но теперь его прохватило насквозь, и старая болезнь легких вспыхнула с новой силой. Что только ни делали, как только ни лечила его мать, но болезнь, отступив на шаг, спустя какое-то время приближалась на два.
В Пишпек мы приехали днем. Светило солнце. Открывшиеся взгляду горы были в пушистых белых шапках. Город, почти сплошь одноэтажный, тонул в садах. По улицам ветер гнал палую листву. Но далеко не все деревья еще облетели. Пишпек показался более теплым и приветливым, чем Верный. Особенно после долгой дороги и того, что произошло на Курдае.
В середине двадцатых годов город занимал сравнительно небольшую площадь. С севера он ограничивался улицей Ташкентской, ныне Жибек Жолу с запада — Кара-Суйской, ныне проспект Манаса, с востока — речкой Аламедин, а с юга граница проходила там, где сегодня пролегает линия железной дороги, которой тогда еще не было. Летом на улицах, достаточно широких и прямых, как стрела, была пыль по щиколотку, а когда заряжали дожди, первейшей необходимостью для детей и взрослых становились галоши. Без галош ни летом, ни зимой было не обойтись
Любопытно, что Пишпек не сразу и отнюдь не безоговорочно был выбран столицей только что созданной Кара-Киргизской автономной области. С ним соперничали Ош и Джалал-Абад, имевшие серьезное преимущество: их соединяла с Россией железная дорога. Всего же в Киргизии было в ту пору лишь шесть городов да несколько крошечных рабочих поселков, застроенных приземистыми глинобитными домами вперемешку с домами из самана. Киргизские руководители приняли сначала решение в пользу Джалал-Абада. Главный аргумент — есть железная дорога. И все-таки была создана авторитетная комиссия, в состав которой вошли представители не только местной власти, и которая должна была вынести на сей счет свое веское заключение.
Джалал-Абад, считавшийся первым претендентом на роль столицы, произвел на комиссию удручающее впечатление. Узенькие улочки, низенькие постройки-мазанки. И совсем иначе выглядел Пишпек. В нем уже появились добротные дома, в том числе даже несколько двухэтажных, работали телефон и телеграф, были обустроенные парки. Распланированный в виде "сетки", он имел строгие линии кварталов, внутри которых стояли ряды домов. И походил Пишпек скорее на европейский тип города, чем на азиатский. Правда, до железной дороги было далеко, километров пятьсот, но какое-то время можно ведь обойтись и без нее.
Хотя этот регион издавна заселялся кыргызами, в самом Пишпеке жили, в основном, русские — чиновники, ремесленники, рабочие. Много также было здесь украинцев, дунган, узбеков и татар. В общем, полный интернационал. Значительно выше, чем в Джалал-Абаде, был в этом городе образовательный уровень населения.
По итогам работы комиссии было принято поистине соломоново решение: сделать столицей Пишпек, а затем, доведя Джалал-Абад до ума, перевести столицу туда. Но правильно говорят: ничто не сохраняется так долго, как то, чему придается временный статус. Вскоре всем стало ясно, что развитие Пишпека не оставляет никаких шансов ни одному другому городу. И проще, разумней протянуть к нему железную дорогу, нежели перестраивать заново тот же Джалал-Абад.
Дом на Краснооктябрьской
Поначалу мои родители сняли небольшой дом за речкой Аламедин, в сельской местности, где цены были пониже. Но оставаться там они не собирались. Надо было оглядеться, прикинуть, какое жилье в городе им подходит, а уж затем покупать его. Отец полагал, что купленный дом будет как бы родовым гнездом, где появятся на свет и вырастут новые поколения Оторбаевых, и поэтому к выбору относился особенно основательно. Откуда он мог знать, сколько ему отмеряно времени? Ну, а если бы и знал? Что из того? Насколько мне известно, отец никогда не изменял своей привычке делать хорошо все, за что бы он ни брался.
Наконец, Оторбай-ата купил приглянувшийся ему дом по улице Краснооктябрьской, между улицами Токтогула и Киевской, чуть выше того места, где расположен нынче музей знаменитого скульптора Ольги Мануйловой. Это был первый наш дом в Пишпеке. Побеленный и снаружи, и внутри, он стоял на высоком фундаменте и имел три комнаты. Во дворе располагалась мечеть, куда стекались верующие изо всей округи. Далеко окрест разносилось "Алла-а-а-а"... Поначалу я просыпался, едва заслышав ранним утром эти несущиеся к небесам звуки. Но постепенно я как-то свыкся с ними, и они не тревожили мой сон.
Отец ходил в мечеть. Нельзя сказать, чтобы часто, но ходил. Наверное, он был верующим. Но дома не молился. И в дороге тоже. Скорей всего он был из тех, для кого Бог как бы внутри самого человека сопряжен с его поступками, с его честью и совестью. Посещая мечеть, он, должно быть, задавался вопросом — то ли делает, не заблудился ли? Впрочем, возможно, я и ошибаюсь. Возможно, совершенно иные мысли, сомнения посещали его в божьем храме. На эти темы ни с кем из близких он не заводил речь.
На улице, во дворе полно было ребятишек. И моих сверстников, и постарше. Кроме обычной беготни, меня занимали альчики. Игра в альчики доставляла мне удовольствие куда большее, чем игра в прятки или в пятнашки. Здесь был какой-то смысл, ощутимый результат, здесь умение, ловкость вознаграждались выигранными альчиками.
Что из себя представляла эта игра? Чертился на земле круг диаметром около метра. Игроки складывались по равному количеству альчиков, из которых выстраивалась шеренга в середине круга. Находясь в двух-трех метрах от нее, надо так бить по альчикам шеренги, чтобы они улетали за пределы круга. Для этого бьющему дается крупный и тяжелый альчик — сака. Самой же саке при ударе нельзя покидать круг. Она должна остаться внутри него. Таким образом, удар должен был быть достаточно сильным, чтобы вышибить из круга расставленные там альчики, и вместе с тем как бы сдержанным, коротким, не позволяющем саке последовать за остальными альчиками.
Это-то мне и нравилось: расчетливость, выверенность удара. Именно здесь заключалось для меня главное. Я подолгу наблюдал, как играют старшие ребята, пытаясь уловить, в чем же секрет такого удара. И уловил: нужно бить резко, но с оттяжкой. Дальше, как говорят, было дело техники. Я много играл. Первое время чаще проигрывал. Альчики, которые по моей просьбе оставляли родители после разделки мяса, постепенно таяли. Но настал момент, когда у меня стало получаться.
Сперва я обыгрывал детвору моего возраста, а потом и тех, кто постарше. Вскоре там, на Краснооктябрьской, осталось мало пацанов, имевших столь же точный, как у меня, удар. А когда мы года через три стали жить на Лагерной, так приходили даже мальчишки с других улиц, чтобы померяться со мною силами в этой игре. Некоторые даже настаивали, чтобы игра шла на деньги. Уже тогда я зарабатывал таким образом по 20-30 копеек.
Мне приятно вспоминать об этом. Человеку вообще, на мой взгляд, вспоминается из прошлого больше хорошего, удачливого, того, что позволяло свече его жизни гореть поярче и поменьше коптить. Да и потом разве только неудачи, оплошности и просчеты учат нас уму-разуму? Разве успехи, в каком бы возрасте"они ни приходили и каких бы масштабов ни были, разве успехи не подстегивают нас к повторению, к такому же подходу и в других, все более усложняющихся делах? Ведь кто знает, быть может, еще тогда, в "альчиковый" период, во мне уже зарождалась тяга к серьезным играм, к состязательности, к умению спокойно, без дерганья относиться и к выигрышам, и к проигрышам.
Отца все сильней донимала болезнь. Простуда, которую он схватил на Курдае, привела к осложнениям. Сухой, надрывный кашель, рвущийся из самого нутра, мучил, изматывал его. Он похудел, стал медлителен и задумчив. На костистом, узком лице отчетливо выделялись усы и длинная густая борода.
После переезда на Краснооктябрьскую отец какое-то время занимался делами, поддерживал достаток в семье. Однако давалось ему это с трудом. Не то, что на дальние, даже на короткие поездки, связанные с его предпринимательскими заботами, он уже не отваживался. Резко поубавилось в доме гостей. Последний год жизни отец провел большей частью лежа в постели. Он таял на глазах. Иногда подзывал меня к себе и спрашивал, поглаживая бороду тонкими, ослабевшими пальцами:
— Чем занимаешься, сынок?
— Играю, — отвечал я, стоя подле него.
— А во что? В альчики?
— Ну да, — кивал я. — У меня уже два мешочка альчиков.
— Да ты садись, посиди рядом. Расскажи, с кем играешь, как у тебя получается?
Я, конечно, садился, торопливо рассказывал отцу обо всем, что его интересовало, но сам чувствовал себя, как резвый жеребенок, оказавшийся в стойле. Я ведь забегал домой лишь на минутку, что-нибудь перекусить или выпить воды, во дворе меня ждали ребята. Да и вообще, казалось мне, разве могут быть какие-то разговоры важней того момента, когда я окажусь в трех метрах от круга с выстроенными по центру блестящими альчиками?
Отец понимал мое состояние и не обижался. Дети, перед которыми только-только открывается мир, всегда эгоистичны. Он улыбался углами рта, хотя глаза его оставались грустными. Проведя теплой ладонью по моим давно не стриженым волосам, он говорил:
— Иди играй, а то совсем засиделся, — и легонько подталкивал меня к выходу. А меня и подталкивать не надо. Я летел, как стрела из лука. Хотя, помню, отца я очень уважал. И мать прививала мне это чувство. Но что поделаешь, на месте мне не сиделось.
С приходом зрелости многое человек пересматривает, переосмысливает. О чем-то сожалеет, в чем-то раскаивается, с чем-то смиряется, в чем-то пытается оправдаться. И, конечно же, порою бывает досадно, что ничего уж не изменить, не вернуть то время, когда можно было примоститься, поджав под себя ноги, возле отца и неспешно поговорить с ним, о чем только пожелается. Время не повернуть вспять, но мыслью при желании можно связаться с прошлым, проникнуть в исчезнувшую, канувшую в небытие реальность давних лет и восполнить, опять-таки мысленно, допущенные когда-то пробелы. Известно: наша жизнь такова, как мы думаем о ней. А для мысли нет преград ни во времени, ни в пространстве.
Болезнь отца повлияла на наш семейный уклад. Достаток постепенно уходил из дома. И тогда за работу взялась мать. У нас была немецкая швейная машинка "Зингер". Она считалась самой лучшей в ту пору. Впрочем, эта марка машинок ценится и поныне. Несмотря на все пертурбации, она сохранилась в нашем доме. И даже теперь ей иногда пользуется моя жена, Мария Токтогуловна.
Мать начала шить рубашки. Материала, самого разного, в магазинах было полно. Фасон для рубашек она выбирала попроще, а материю — попрочнее. Она шила не для изысканной публики, как это делали швеи белошвейки, а для простых людей. Стоили эти рубашки недорого, зато спрос на них был большой.
Еще с тех лет в памяти сохранился мягкий, стрекочущий звук машинки. Нередко я и засыпал под него. Мама шила целыми днями, с утра и допоздна. В ее рубашки, как мне казалось, можно было одеть весь город. Во всяком случае, боль¬шую часть взрослого мужского населения.
Иной раз, правда, она делала исключение и шила детскую одежду. В детский садик и в первый класс я ходил в гимнастерке и брюках-галифе, сшитых по тогдашней моде специально для меня. Соседские мальчишки смотрели на меня, разинув рты. Гимнастерка и брюки-галифе были особо почитаемы. В них ходили вождь страны Иосиф Виссарионович Сталин, а также местное начальство. Сейчас я не могу без улыбки представить себя, карапуза, гордо шагающего по улице в этой одежде. А тогда...
Мама шила рубашки, а вторая жена отца, Абия, продавала их на базаре. В этом состоял, как нынче выражаются, семейный бизнес. Базар назывался "Зеленым" из-за обилия овощей и фруктов. Прилавки ломились от ярко-красных, брызжущих соком помидоров, шершавых, только с грядки, огурцов, оранжевой и прямой, как восклицательный знак, моркови, крупного, с кулак, в светло-коричневой кожуре лука, упругой и круглой, как шар, капусты, ровного, с тонкой кожицей картофеля и многого, многого другого.
Дунгане торговали овощами и специями. Русские — фруктами, молочными продуктами и свининой. Узбеки — дынями, виноградом и орехами. Кыргызов среди продавцов было немного. Если они и встречались за прилавком, то только в мясных рядах. Стоять целыми днями на базаре, заниматься мелкой торговлей — нет, качали головами кыргызы, это не для нас. Не серьезно все это.
Располагался "Зеленый" базар на том месте, где раскинулась теперь Площадь Победы. По сути, он был пуповиной, центром тогдашнего города. В каких-то других рынках подобного типа пишпекцы больше и не нуждались. Его вполне хватало на всех.
Рядом с продовольственным формировался и промтоварный рынок, где тоже можно было купить все, что душе угодно. Причем, раскупались вещи как новые, так и ношенные. Не заграничные, нет, свои. Люди любили, чтобы одежда была немаркой и могла носиться годами.
Так что рубашки, которые шила мать и которые выносила на базар Абия, уходили влет. К тому же даже по тем временам они стоили очень дешево. И все-таки нашей семье вполне удавалось сводить концы с концами.
Западнее базара, ближе сюда, к улице Купеческой (впоследствии Советской) находились выкрашенные в тусклые цвета деревянные или металлические будки ремесленников -кузнецов, паяльщиков, лудильщиков, точильщиков, жестянщиков, сапожников, красильщиков, часовщиков... Здесь можно было и лошадь подковать, и сшить сапоги по заказу. Иные пацаны бегали сюда, чтобы в крупный альчик (саку) им влили свинец, тогда он становился тяжелым, и альчики, по ко¬торым он бил, сразу выскакивали из круга.
Шитье рубашек поглощало у матери много времени. И все же главной заботой для нее оставался уход за отцом. Она поила его горячими мясными бульонами с плавающими кусочками бараньего жира, настоями из разных лекарственных трав, кормила всем самым свежим, самым питательным, смазывала спину целебными прогревающими мазями... Бывало, что кашель слабел, смягчался, но не надолго. Всем нам мучительно было смотреть, как медленно и неотвратимо он угасал.
Смерть отца
В конце мая 1927 года отца не стало. Умер он совсем еще не старым человеком, 37 лет отроду. Хоронить отца повезли на родину, в село Тегерменти Чон-Кеминской долины, где жили его братья Орозбек и Сулайманкул.
Большую часть пути ехали на телегах. Май выдался теплый и сухой. Из-под колес струилась легкая, седая пыль.
Скорбные лица матери и Абии как-то не вязались с тем буйством красок, которые дарила весна. Кругом цвели сады, зеленели поля, щебетали птицы. Природа словно старалась отвлечь всех, кто ехал с нами на похороны, от мрачных мыслей. Под ее воздействием люди заводили обычные разговоры, связанные или с севом, или с поездкой на джайлоо, или с чьей-то намечающейся свадьбой.
Вспомнили про мою старшую сестру Акиму. Еще когда мы жили в Верном, она вышла замуж за Токчоро Джолдошева и перебралась к нему в Пишпек. Другие мужья старались держать жену при себе, не очень-то думая об ее образовании. Токчоро же был совсем иного склада, из племени первых кыргызов-просветителей, и он сам позаботился, чтобы Акима продолжила учебу после окончания средней школы.
Она стала учиться в Среднеазиатском Государственном Университете (САГУ) в Ташкенте, считавшемся тогда ведущим вузом всего Туркестана. Мать, сама по сути безграмотная, гордилась, что дочь у нее будет с высшим образованием. И была благодарна за это ее мужу, Токчоро Джолдошеву.
Переночевав в Токмаке, мы отправились дальше. До Кичи-Кемина также на телегах, а там уже пришлось ехать верхом. Через перевал Кашка-Жол дороги еще не было. Меня подсадили к матери, она сидела в седле, а я впереди, на холке лошади. С непривычки было и жестко, и неудобно. Но вскоре, через два-три километра, меня сморила усталость, и я задремал, покачиваясь в такт мерного шага лошади. Чтобы я не упал, мать бережно прижимала меня к себе. Мои глаза то приоткрывались, впитывая удивительную красоту поросших арчой и елью склонов перевала, то закрывались, и я ощущал только мерное покачивание и надежно придерживающие меня руки матери. Так я и запомнил свое первое путешествие верхом на лошади.
На похороны отца собралось много народа. Люди съезжались отовсюду, приезжали издалека, чтобы проститься с прахом Оторбая Куланбаева — потомка Кара-Чолок Батыра из Кеминской долины. Помню, как один аксакал, древний, в глубоких морщинах, словно кора вековой арчи, наклонился ко мне и сказал: "Твой отец был достойным, хорошим человеком. Не забывай об этом, Каип".
По кыргызскому обычаю жена не менее года должна оплакивать умершего мужа. Поэтому после похорон мы остались в Чон-Кемине. Поселили нас у Сулайманкула. Когда-то отец помог своему младшему брату построить дом. Тот приезжал к нам в Верный, и Оторбай-ата, будучи тогда довольно-таки обеспеченным, дал ему денег. Дом получился на славу — из прочных и толстых деревянных срубов, с высоким цоколем. Кто мог предположить, что однажды там будем жить и мы с матерью?
Хозяйство у Орозбека и Сулайманкула было крепкое. По совету отца братья уже давно занимались коммерцией. Ску¬пая в Чон-Кеминской долине овец, телок, они перегоняли их на продажу в Токмак. И у того, и у другого были, конечно, ло¬шади. Там я и научился ездить верхом. Потом мне, в общем-то городскому человеку, это еще не раз пригодится.
Сельские мальчишки пасли лошадей, гоняли к речке на водопой, купали. Я старался не отставать от них. Лошади были без седел. Подведешь такую к забору или пеньку, только тогда и вскарабкаешься на спину. Везде нужна сноровка. Сначала я с завистью смотрел, как мои сверстники лихо взлетали на лошадей чуть ли не на ходу. А к концу лета и сам приловчился. Скакать наперегонки, чувствуя, как ветер свистит в ушах, а земля стремительно летит и летит навстречу — что может быть упоительней для мальчишки?
А, бывало, свернешь в диковатое, малохоженное ущелье. Травы стоят высокие, лошадь с головой скрывают. Оставишь ее пастись, а сам спустишься чуть ниже, где бежит, извиваясь, горный ручей. Вода в нем студеная, ледниковая. Прыгаешь по камням, выступающим из ручья, кажешься себе сильным и ловким, но вот поскользнулся — и уже в воде. Вылезаешь мокрый, обиженный на весь свет... А согрелся на солнце — и снова счастлив, снова упиваешься красотой природы.
Это сейчас я вижу Чон-Кеминскую долину глазами географа: сухие, изрезанные склоны на западе, разнотравная степь альпийских лугов на севере... В детстве же больше живешь чувствами, ощущениями. И красота вливается в тебя легко, раскованно, как тот хрустальный ручей, струящийся по ущелью.
Меня иногда спрашивают, почему я не остался жить, скажем, в Москве или Санкт-Петербурге, ведь мне удалось объездить почти весь мир. Задумываясь над ответом, вспоминаешь не о патриотизме. И даже слово "Родина" не касается губ. Ну, как, исключив банальные, расхожие варианты, объяснить собеседнику, что тебе видится за этим словом? Разве расскажешь о впечатлениях детства, о тех же скачках, ущельях, ручьях? Родина выбирается сердцем. Это умом определяют, где выше экономический уровень жизни, где можно комфортабельней устроить свой быт. А привязывают к тому или иному месту именно чувства. Как и человека к человеку. Такая связь, в отличие выбора по расчету, самая глубинная, самая истинная. Именно ей я отдаю предпочтение.
В нашей Кеминской долине жил легендарный Шабдан-батыр, с которым мой дед ездил в Мекку. И когда сегодня говорят об этой долине, то она ассоциируется с шабдановскими племенами. Наше же племя сарбагыш происходит от сына Тагая, Доолоса, чье имя зафиксировано еще в "Маджму ат-таварих" в начале шестнадцатого века. Вот из каких далей тянется наш древний род, имеющий у истоков своих прославленных батыров.
Для кыргызов это очень важно. И характерно. У каждого племени свои знаменитые родители. Мы ведь все происходим от героев. Таласцы гордятся, что живут на Родине Манаса, его потомков Семетея и Сейтека, воспетых акынами-манасчи. И в какую бы область они ни приехали, их воспринимают, как родичей Манаса. В Джалал-Абаде недавно праздновали юбилей Курманбека. Он был жителем тех мест, из Сузакского района. А известная Байтикская впадина, названная в честь Байтик-батыра? А сколько еще покрытых славой имен у кыргызского народа?
История, история... К югу от Ак-Бешима почти тысячу лет стоит наша красавица Бурана. Оригинальна ее постройка и неповторимы архитектурные украшения. Хотя самому городищу Ак-Бешим еще лет на 500-600 больше. Его цитадель с башнями обнесена кольцом стен. Кого здесь только не было: и тюркские ханы, и согдийцы. Возводили свои храмы христиане, буддийцы, потом уже появились мечети и минареты. Есть столь же древняя, как Бурана, башня и около Джалал-Абада — Шах-Фазиль. Потому, наверное, и остаются у нас прочные отношения, связанные с родом и племенем, что славная история не забывается. Она множится славой детей и внуков. Память о предках удерживает от бесчестья. И так движется из поколения в поколение...
Сегодня кыргызов упрекают в трайбализме, мол, свои племена превозносите. Но так было всегда. И будет, пожалуй. От своей истории никому еще не удавалось уйти. Тем более, что в народе верят: будет сын таким, как отец, а дочь, конечно же, пойдет в мать. Поэтому женихов и невест всегда выбирали родители: не один год они знали их отцов и матерей, не один год жили с ними бок о бок. За много лет правду о человеке все равно углядишь, да и сам он ее вольно или невольно выкажет. Ведь судьба детей во многом повторяет судьбу своих родителей. Не по внешним, так по внутренним признакам. Только не все хотят это замечать.
А насчет трайбализма... Просто не надо использовать родственные отношения во вред всему народу. Ведь очень худо, если кто-то, поднявшись на ступеньку, тянет за собой родственника-неуча или проходимца, да еще и место для него расчищает. В таком случае позор одного из племен ложится на весь народ. Так же, как слава сына распространяется и на родителей, и на его потомков.
Время в Кемине мчалось незаметно. Опять подступила весна. Отмечалась годовщина после смерти моего отца — аш. К этому событию готовились все родные и близкие. Помянуть Оторбая Куланбаева, чья душа уже находилась на небесах, постарались достойно, как он того заслужил.
По кыргызскому обычаю для поминок были зарезаны две лошади и несколько овец. Во дворе стояли юрты. Тут же в громадных казанах варилось мясо. Щекочущий ноздри, аппетитный запах разносился по всей округе. В назначенный день к нам потянулись люди. Кто пешком, кто верхом. Почтить память отца пришли сотни человек. Мулла читал Коран. При¬бывшие издалека оставались ночевать. Поминки длились почти неделю.
На аш приехали Акима и Токчоро Джолдошевы. Сразу же они включились в работу, помогая матери, братьям отца встречать и угощать гостей. Были здесь и родственники второй жены отца, Абии. После поминок они увезли ее с собой на Иссык-Куль, откуда она родом. Абия обещала наведываться к нам, но так я ее больше и не увидел.
На семейном совете было решено, что мы с мамой возвращаемся во Фрунзе (так с 1926 года стала называться столица Киргизии) и будем жить вместе с Джолдошевыми. Тепло попрощались с Орозбеком и Сулайманкулом. Благодаря им, этот год в Кемине оставил у нас только добрые впечатления. Пожелали им удачи и благополучия.
Невозможно было представить, какие беды свалятся на них в ближайшее время. Подступала объявленная Иосифом Сталиным всеобщая коллективизация сельского хозяйства. Считалось, что основным препятствием на ее пути являются зажиточные крестьянские хозяйства. Во владельцах этих хозяйств, прозванных кулаками, большевики видели главное зло. О паритетном сосуществовании коллективной и частной форм собственности не могло быть и речи. Кулаки ликвидировались как класс, чтобы, якобы, не мешали созданию на селе новой жизни. А все нажитое ими за многие годы тяжкого труда раздавалось беднякам. Заранее, без тщательного изучения конкретной обстановки на местах, составлялась разнарядка, где и сколько человек должно быть раскулачено, намечались сроки, в которые эта кампания должна быть завершена.
В книгах партийных руководителей Киргизии даже восьмидесятых годов, то есть спустя полвека, отношение к тому периоду ничуть не изменилось. Та же уверенность в непогрешимости всего, что делалось при коллективизации. Дескать, здесь, в Киргизии, наряду с решением общей для крестьянства Советского Союза задачи, заключавшейся в преодолении отсталой привычки мелкого собственника, изменении его психологии, убеждении в преимуществах новой жизни, требовалось еще и ликвидировать патриархально-феодальные отношения и даже родо-племенные пережитки, покончить с эксплуататорскими элементами — баями, манапами, а так же кулаками.
Ликвидировать, покончить... Тысячи людей, чьи дома, скот, имущество полностью конфисковывались, были отправлены в глухие места Сибири, Алтайского края. Сколько их погибло, пропало без вести, доживая свои дни у черта на куличках, вдали от своей Родины.
Под общую метлу раскулачивания попал и старший брат отца Орозбек. Правда, ему еще повезло. К тому времени перестали ссылать из Киргизии в холодные края. И он вместе с женой очутился на Украине. Но чужбина есть чужбина. Насильственное переселение не прошло бесследно. Там Орозбек и умер.
Сулайманкулу удалось избежать ссылки. Зная, что следом за Орозбеком должны раскулачивать и его, что вот-вот и до него доберется лихая очередь, он бросил дом, хозяйство и срочно уех л во Фрунзе. Его жена была сестрой Касыма Тыныстанова, занимавшего тогда высокий пост; и с грехом пополам они были оставлены в Киргизии.
Лет пять Сулай анкул продавал папиросы и всякую мелочь, ходя по улицам с лотк . Но всем своим детям дал образование. Это гордость всей нашей семьи — несмотря на любые проблемы, во что бы то ни стало выучить детей. Один из его сыновей стал академиком. Предпринимательство выбрал другой сын. Он тоже, как бывало его отец, то взлетал со своей торговлей, то приходил к Акиме просить помощи.
Но в свое родное село Тегерменти путь им был закрыт. Вернувшись в Кемин, они поселились в Новороссийке, переименованной сейчас в честь Шабдан-батыра. И жили какое-то время, как говорится, тише воды, ниже травы.
Глава III
В семье Джолдошевых
Сразу после поминок Джолдошевы уехали. Видимо, надо было подготовиться к тому, чтобы забрать нас к себе. А, может, и еще какие-нибудь дела их заторопили. Возвратились за нами через месяц. И мы той же дорогой, что и добирались сюда, отправились назад, во Фрунзе.
Говорят, когда человек рождается, у него два ангела-хранителя — мать и отец. Они постоянно оберегают своего ребенка от любых невзгод. Оберегают, растят, наставляют. Если же с кем-нибудь из них случается несчастье, место этого ангела-хранителя должны занимать самые близкие люди. Нельзя, чтобы оно пустовало. Нарушается баланс в воспитании маленького человека. Идут перекосы, незримые, но существенные для его психики.
Мне все-таки повезло. У меня оставалась мать, а после смерти отца место в моей жизни заняли Акима и Токчоро Джолдошевы. Под воздействием моего глубокого уважения к сестре, зятю и сложилась моя судьба.
Акима вообще относилась ко мне с особой сестринской любовью, постоянно заботилась обо мне. Ведь мои братья умерли во время перекочевок, вынужденного ухода родителей в Китай. Она знала их, нянчила, а потом хоронила. И все ее душевное тепло, нежность, которые изначально предназначались для нас семерых, она отдавала мне одному. Так получилось, что мы с сестрой почти всю жизнь прожили вместе. Даже когда я уже стал взрослым, женился и дети родились, мы все равно долгое время продолжали жить в одной квартире.
А зять мой, Токчоро Джолдошев, несмотря на его огромную занятость, во многом заменил мне отца. Он был из того редкого типа людей, в которых сочетается талант крупного общественного, политического деятеля и чуткого, внимательного семьянина. Кто знает, каким бы я стал, как сложилась бы моя жизнь, если бы не встретился Токчоро на моем пути.
Во Фрунзе у Джолдошевых была двухкомнатная квартира. Она находилась в четырехквартирном доме по улице Фрунзе, где сейчас расположились элитные дома, названные в народе "учкудуком" — три колодца. Здесь и тогда стояли три дома. Только одноэтажные. В тех квартирах тоже жили руководящие работники. Но из всех сантехнических премудростей имелся в кухне только умывальник. Воду для него, как и питья, приготовления пищи, приносили с улицы. Там была колонка. Возле нее обычно выстраивалась очередь. Как, простите, и к туалету, сооруженному в конце двора.
Нынешний парк имени Панфилова, который в ту пору только закладывался, был почти напротив нашего дома. Это сейчас в парк все спокойно заходят, а тогда он находился за глиняным забором, дувалом, и туда так просто было не попасть. Снаружи виднелись высаженные вдоль забора тополя, а дальше к центру — карагачи, дубы и липы. По парку ходил лесничий, самый настоящий — с ружьем и собакой. Мальчишкам доставляло удовольствие подразнить его. Залезут с разных сторон на забор, кто-то один начинает свистеть, сторож направляется в его сторону, а тут с противоположной стороны свист раздается. Сторож сердится, грозится, собака лает, надрывается, а для мальчишек все это потеха. Пока однажды он не вытерпел и не пальнул солью. Утихомирились, дразнить перестали.
Возможно, это покажется странным, но меня не привлекали подобные мальчишечьи шалости. Мои сверстники собирались группами, компаниями, говорили, о чем попало, шумели, разыгрывали друг друга, осваивали блатные выражения, от нечего делать, без всяких причин устраивали драки, лазили по чужим садам и огородам...
А я как-то выпадал из их круга. Не в силу своей замкнутости или сознательности. Вовсе нет. Я любил общаться, побалагурить. Но пустое времяпрепровождение в шалманах во главе с каким-нибудь вихрастым вожаком-горлопаном мне претило. Не интересно было — вот и все. Пусть меня считали белой вороной, но я сторонился этих сборищ.
Мне нравились игры. Такие, в которых можно было проявить ловкость, смекалку и, если хотите, мастерство. Про альчики я уже рассказывал. Через год-два я вырасту из них, как вырастают из детских штанишек. Но, еще живя на Фрунзенской, я с любопытством присматривался, а точнее примерялся к мальчишкам постарше, что гоняли на улице в футбол.
Мяч у них был самодельный, состоящий из набитого тряпьем чулка, которому постарались придать круглую форму. Иногда он во время игры вытягивался и напоминал грушу. Однако ребят это не смущало, они продолжали бить по нему до тех пор, пока он мог катиться. И только когда он полностью терял это свойство, после удара лишь кувыркался нехотя и лениво, только тогда его или заменяли, или перешивали заново.
Но несовершенство мяча не мешало азарту нападающих и защитников. Поднимая облако пыли, одни мчались к воротам, ограниченным с двух сторон булыжниками, где насмерть стоял вратарь с разодранными в кровь коленками, а другие наскакивали на них, как петухи, чтобы не пропустить, остановить противника. Они играли не напоказ, поскольку зрителей-то и не было (кроме двух-трех таких же, как я, пацанов) но играли самозабвенно, не щадя босых ног, то и дело ударяющих вместо мяча по подвернувшемуся камню. Мяч связывал всех — не только внутри каждой команды, но и в противоборстве обеих команд. Без него, даже самого примитивного, тряпичного, все рассыпалось, теряло смысл. Он был главным действующим лицом, вокруг которого пылали страсти.
Смотря на тех ребят, заражаясь их азартом, я тогда, конечно, не думал, что футбол так прочно войдет в мою жизнь. Пусть у них не было того мастерства, что приходит с годами, но когда они играли, для них, казалось, не существует ничего, кроме мяча и ворот противника, которые надо поразить, поразить во что бы то ни стало. Они старались изо всех своих мальчишеских сил...
И вот это стремление, эта собранность, этот порыв, видимо, тогда и вошли в меня, остались во мне, чтобы после, когда я уже буду учиться в старших классах школы, самому всерьез приобщиться к футболу.
На Востоке говорят: судьба всегда приходит как случай, не дерево выбирает птицу, а птица выбирает дерево. Случай действительно играет в жизни серьезную роль. Обращайся те самодеятельные футболисты нехотя и лениво со своим тряпичным мячом, не будь они так целеустремленны, кто знает, появился бы тот первый толчок к футболу? Да и после я очутился в той школе, где по счастливой случайности была крепкая футбольная команда.
Если же просмотреть всю мою жизнь, где вдоволь было радостей и печалей, удач и неудач, всевозможных достижений и, пусть редких, но срывов, то везде можно проследить, как во всем этом участвовал случай. Благодаря нему, сколько замечательных людей встретилось на моем пути, причем, на решающих его поворотах, от чего действительно зависела моя судьба. Они, эти люди, с которыми мой читатель или уже встретился или еще встретится на страницах книги, навсегда прописаны у меня в памяти и в сердце.
На улице Фрунзе мы прожили недолго, и уже в 1929 году переехали на Лагерную, переименованную вскоре в Энгельса, а затем — в Чокморова. Здесь у нас было три комнаты и кухня. Дом одноэтажный, четырехквартирный. Находился по Лагерной между Дзержинской (Эркиндик) и Первомайской (Раззакова). Впрочем, почему находился? Он и сейчас там стоит. По-прежнему жилой. После нас в нем жил известный писатель Джоомарт Бокомбаев.
Вообще тот район, расположенный на южной оконечности тогдашнего города, состоял из небольших по нынешним меркам, добротных домов, где жили видные деятели партии, правительства Киргизии. Кто-то из них жил совсем рядом с нами, кто-то в одном или в двух кварталах от нас. Это были председатель Совмина Абдрахманов, секретари ЦК Айтматов и Исакеев, наркомзем Эсенаманов, министр здравоохранения Шоруков...
Вскоре их, как и моего зятя Токчоро Джолдошева, постигнет трагическая участь. Они будут репрессированы. Но разве кто-нибудь из них догадывался, знал об этом заранее? В самом начале тридцатых годов ничто еще не предвещало той жестокой кадровой чистки, что спустя несколько лет пройдет, как танком, прежде всего, по руководящим кадрам.
Что я могу рассказать о Токчоро Джолдошеве, чье влияние на меня, хоть жили мы вместе короткое время, было огромным? Родом он был из Кара-Булака, из того же села, где родились выдающиеся композиторы Абдылас Малдыбаев и Насыр Давлесов. Рано остался без родителей. В рядах Красной Армии боролся с белогвардейцами. Окончив Киргизский институт просвещения, работал учителем в различных районах — от Иссык-Куля до Сусамыра.
Токчоро обладал и организаторским талантом, и талантом исследователя. Его отличала поистине энциклопедическая широта взглядов и интересов. Тогда образование, наука, культура Киргизии представляли, образно говоря, огромный пласт целины. И он нередко: становился первопроходцем во всех этих сферах. Он был и министром просвещения, и секретарем ЦИК Киргизской Автономной Республики, и вместе со своими соратниками закладывал основы той Академии наук Киргизской ССР, которая была создана позднее, в 1943 году, постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома, как Киргизский филиал Академии наук СССР. Пройдет время, и многие годы моей жизни будут связаны с этой Академией наук, где я пройду путь от сотрудника Отдела экономики, руководителя Отдела географии до Главного ученого секретаря Президиума Академии.
Во многом благодаря усилиям Токчоро Джолдошева был открыт первый медицинский техникум. При его ведущем участии в 1924 году проходила женская конференция работниц сулюктинских копей, ее сенсацией и достижением просвещения стал тот факт, что после конференции женщины сняли чадры, закрывающие их лица от посторонних глаз, причем, сделали это в присутствии мужчин. В том же году в Киргизии стал работать первый и единственный на весь Туркестан ветеринарный стационар — также своего рода заслуга министра просвещения. Кроме того, тогда же дважды вводились новые деньги — сначала появились бумажные боны: желтая — копейка и синие — пять копеек, а вскоре были отчеканены серебряные 10, 15, 20, 50 копеек и рублевая монета. Потом уже как-то я узнал, что эти металлические деньги были сделаны по царским образцам.
Прямое отношение Токчоро имел и к созданию Киргизского научно-исследовательского института языка, письменнос¬ти и литературы, где первыми исследователями были Касым Тыныстанов и Белек Солтоноев. Разработанным ими алфави¬том киргизского языка, литературными нормами, терминологией политических и юридических наук мы пользуемся до сих пор.
А научно-исследовательский институт краеведения? А координация в единый план работ ряда учреждений, включая институт животноводства, для того, чтобы все народное хозяйство опиралось в своем развитии на научную базу? Все это тоже неразрывно связано с Токчоро Джолдошевым.
Оно и понятно. Образованных людей в двадцатые годы было немного, поэтому те, у кого за плечами было высшее образование, да еще и соответствующие способности, брали на себя решение массы проблем.
Так получилось, что мой зять стоял у истоков научного ведения хозяйства, а я — один из исследователей научного прогнозирования развития и размещения производительных сил Кыргызстана на период до 2015 года. Что это — случайное совпадение или закономерность? Мне кажется, само пересе¬чение наших судеб не могло не иметь таких вот последствий в реальности.
Оставаясь государственным деятелем высокого ранга, Токчоро Джолдошев был еще и первым профессиональным литературным критиком, литературоведом. Он писал статьи, рассказы, стихи, занимался переводами, издательской деятельностью, изучал и собирал фольклор. Его близость к писательской среде немало способствовала созданию Союза писателей Киргизии. На первом съезде писателей выступил с докладом Аалы Токомбаев — основоположник письменной киргизской поэзии. А еще через месяц Токчоро провожал представителей этого молодого Союза в Москву на Всесоюзный съезд писателей. Вместе с Токомбаевым в столицу страны поехали Кубанычбек Маликов, Касымалы Баялинов и ряд других писателей.
Тогда же организовали и Союз художников. И тут тоже не обошлось без моего зятя. Вместе с выдающимся мастером кисти Семеном Чуйковым они долго вынашивали эту идею, искали помещение, где можно было бы размещать картины. Сначала был создан оргкомитет, а уже через год и сам Союз. Одним из первых мероприятий была выставка самого Семена Чуйкова, а также, помнится, Гапара Айтиева.
Но и этим сфера деятельности Токчоро не ограничивалась. Благодаря его усилиям во Фрунзе открылся музыкальный техникум. В первом наборе оказались будущие знаменитости — А. Аманбаев, М. Абдраев, А. Тулеев. А.еще в 1930 году начал свою работу Государственный театр, который объединил всех актеров, лелеемых Джолдошевым и собираемых им со всей республики. Среди них — певец Терметчиков, гармонист Бай-батыров, музыканты Мураталы Куренкеев, Карамолдо Орозов и Саякбай Каралаев.
Правильно говорят, лучшее, что делает человек, растворяется в людях, остается в них, передается через них следующим поколениям. Подтверждением этому является и деятельность моего зятя Токчоро Джолдошева, чья короткая и стремительная жизнь оказалась поразительно плодотворной.
Вскоре после того, как мы поселились в доме на улице Лагерной, я стал ходить в детский сад. Находился он на улице Первомайской между улицами Токтогула и Киевской. Теперь там разместилось профтехучилище.
В детсад меня отводила Акима. Правда, ходить с ней я не любил. Чуть ли не на каждом шагу она встречала знакомых, останавливалась, и они подолгу говорили. А я вынужден был стоять, переминаясь с ноги на ногу, и слушать рассказы — о них самих, об их близких, обо всем, что случилось в их жизни с момента последней встречи. "Странно, — недоумевал я, — мы только вчера видели эту женщину, как с ней могло столько всего произойти?" Закончится этот разговор, едва отправимся дальше — опять кто-то здоровается. И снова десяток минут разговоров.
Акима всегда с интересом слушала своих знакомых, иной раз стараясь узнать кое-какие детали, подробности. Вероятно, для того, чтобы помочь им в нужную минуту. Она особенно дружила с женой Аалы Токомбаева — Зейнеп-эже, они были лучшими подругами. Близкие отношения сложились у нее и с женами Юсупа Абдрахманова, Торокула Айтматова и В. Кутарева. В детсаду нас учили рисовать, складывать по слогам отдельные слова, петь детские песенки. Там впервые я стал говорить по-русски. Мне и прежде приходилось обмениваться отдельными фразами с русскими сверстниками, но словарный запас мой был, мягко говоря, беден. Дома мы общались на киргизском, мое окружение в Пишпеке, на улице Краснооктябрьской, куда мы вначале переехали, почти сплошь составляли киргизы, казахи, узбеки и дунгане, которым был знаком киргизский язык, а не русский. Поэтому даже мало-мальски приобщиться к нему мне было попросту негде. Разве что во дворе "учкудука", но и там это знакомство лишь началось и носило, что называется, шапочный характер.
Другое дело в детсаду. Здесь было много русских ребят. Вместе мы проводили целые дни. Играли, пели, рисовали. Разговоры велись, в основном, на русском. И, естественно, для меня приоткрылось окно в русскую речь.
Наверное, у Токчоро и Акимы все именно так и планировалось, так и предполагалось. В детсад обычно отдавали детей, если родители на работе и с ними некому заниматься. Моя же мама была дома, у нее хватало домашних хлопот. Зять с сестрой попросту решили, чтобы я "поварился" в русскоязычной среде и таким образом был подготовлен к следующему, более серьезному шагу, который, судя по всему, они тоже планировали.
И вот однажды Акима завела речь о школе.
— Каип, — сказала она мне, — пора готовиться к школе. Имей ввиду, в этом году ты пойдешь в первый класс.
— Ладно, — согласился я, — а в какую школу?
— Первую, имени Максима Горького.
— Но она же на русском языке! Как я там буду учиться? Вон даже в детском саду с пацанами мне трудно подбирать русские слова. А в школе учительница спросит что-нибудь, я ей и ответить не смогу. Со стыда сгорю.
— Стыдно, когда человек не хочет знать больше того, что знает, — покачав головой, возразила сестра. — А если он старается, учится, ему нечего стыдиться. Вот посмотришь, у тебя все получится.
— А, может быть, все-таки в школу на киргизском языке? — я все еще пытался сопротивляться. Хотя уже понимал, что бесполезно.
— Нет! — поставила точку Акима. — Та школа самая лучшая. В ней подобрались самые сильные учителя.
Присутствующий при этом Токчоро поддержал ее. Видимо, они не раз обсуждали вопрос о том, в какую мне идти школу, и придерживались на сей счет единого мнения. По его словам, мне нечего пугаться поджидающих меня трудностей. Если не лениться и сразу брать на себя приличную нагрузку, то потом к этому привыкаешь, и любые нагрузки будут нипочем. — Русский язык необходимо знать, — говорил Токчоро. — В такой большой стране, как СССР, один язык должен быть общим, связующим. Чтобы повсюду, куда бы ты ни поехал, мог свободно переговорить с любым собеседником. Но при этом и свой родной язык, киргизский, грех забывать. Вот посмотришь, уже ваше поколение будет двуязычным, и только выиграет от этого.
Моя мама поддержала Акиму и Токчоро, хотя сама совершенно не говорила по-русски. Своим чутким материнским сердцем она, видимо, понимала, что это может пригодиться, помочь мне в жизни. "Не противься, сынок, они правильно говорят, я это чувствую", — сказала она, поглаживая мою голову своей шершавой от домашних трудов ладонью.
Хочется сказать, что именно под воздействием моего глубокого уважения к сестре и зятю складывалась моя судьба. Это они мне постоянно твердили: "Учись!" Это они изо дня в день настаивали, чтобы я проявлял старание, прилежание к учебе. Это они убеждали: " Ты — кыргыз, по-русски знаешь плохо. Но ты должен учить все предметы не на кыргызском, а на русском языке. Ты должен доказать, что тебе и это под силу".
С первого класса Акима говорила мне, что нельзя, стыдно быть хуже остальных учеников, надо стать лучше, тем самым она возбуждала мое честолюбие. Наверное, потому я и стал научным работником и кое-чего достиг на этом поприще, что ее слова всю жизнь помнил.
И даже когда зятя арестовали, а сестру объявили женой "врага народа", даже тогда, как ни покажется странным, эти близкие люди помогали мне идти по жизни.
Да, арест зятя навлек на всю семью и обвинения, неприязнь со стороны одних, и боязливое сочувствие со стороны других. Не раз мне приходилось замирать, когда пожелтевшие от никотина пальцы с неровными ногтями "козой" давили в глаза: "У-у, воспитанник контрреволюционера! Будь моя воля, уж я бы тебя под корень!.." Но если долго идти по канату, прекрасно зная, что тебе никак нельзя падать, иначе разобьешься вдребезги, то обязательно научишься держать равновесие. Сознание того, что меня также могут ошибочно обвинить в предательстве и вражеских происках по отношению к советскому народу и партии, приучило к сдержанности, умению обдумывать каждый свой шаг.
Уже с юности я не позволял эмоциям взять верх над разумом. Контроль над своими поступками, действиями формировал во мне четкое деление ценностей, где было только черное и белое, плохое и хорошее, злое и доброе. И никакого разноцветья, ничего промежуточного. Я отказывал себе в праве даже мысленно погружаться в сомнения, подменять правду ложью.
Как видно, незаурядные личности даже своей смертью продолжают оказывать на нас влияние
Школа имени Горького
В августе 1929 года Акима повела меня показывать школу №1, ту самую десятилетку, о которой шла речь. Это было большое одноэтажное здание на пересечении улиц Дзержинского и Кирова, где потом размещалась библиотека имени Чернышевского. В начале восьмидесятых на этом месте было отстроено современное здание — Дом политического просвещения ЦК. Нынче там детский эстетически-образовательный Центр "Сейтек".
Когда в первый день я оказался в своем классе и огляделся по сторонам, то даже внутренне как бы съежился. Из сорока учеников я был единственным кыргызом. Меня это не испугало, нет. Просто явилось неожиданностью. Значит, все, кроме меня одного, будут учиться на родном языке. Мне придется труднее, а им легче. Но ничего, еще посмотрим, подумал я, у кого как пойдет учеба.
К соперничеству мне, в общем-то, не привыкать. Любая игра — это соперничество. А игры меня привлекали. К тому же свежи были в памяти слова Токчоро о том, что человеку, если он хочет крепко стоять на ногах, необходима серьезная нагрузка, нужно испытывать себя на преодолении трудностей. Так что если я слегка и скис, то лишь на мгновение. Да и ребята тут же стали ко мне подходить, чтобы познакомиться. Возникшее напряжение вмиг разрядилось. Мне предстояло не только соперничество, но и дружба с моими одноклассниками.
В коридорах школы, во дворе мы старались держаться вместе. Прижимались к стенке, когда мимо шумно и раскованно проходили старшеклассники. Но робость наша была недолгой. Никто из старших ребят не собирался задираться, показывать на нас свою силу. В школе, директором которой был Эммануил Хаскелевич Будянский, замечательный человек, историк, придерживались доброго правила: младшие как бы привилегированный класс, не дай Бог поднять на них руку. Взрослея, мы оставались верными этому правилу.
Но тогда старшие вызывали у нас восторженную зависть, поскольку они как бы обжились в школе, ходили по ней свободно и даже, как нам казалось, с некоторой важностью. Ну, а если затеряешься среди тех ребят, то невольно чувствуешь то превосходство, которое давал им возраст.
Сегодня первоклассники воспринимают школу, как некий порог, переступив который, сразу "становишься большим". Родители покупают им все новое, и эта обновка тоже как бы предваряет вхождение их во взрослую жизнь. У нас же новая одежда, обувка появлялись тогда, когда мы до дыр снашивали прежнюю или полностью из нее вырастали. Да и сам процесс воспитания нынешних малышей, основанный на научных методиках, совершенно естественно подготавливает их к новой ступени собственного развития.
Наши внуки уже в детском саду усваивают многие правила общественного жития, и потому спокойней, без лишнего трепета относятся к тому, что их ожидает в той же школе — скажем, увеличение спроса за свои поступки. Более того, им внушают и воспитатели, и соответствующие программы телевидения и радио, что с каждым классом гражданские требования к ребенку усиливаются в соответствии с повышением уровня образованности.
А у нас и близко этого не было. В те годы чувство ответственности прививалось семьей, обязанностями каждого, даже малышей, перед ней. Помощь родителям считалась первейшим делом. Подвести их, не выполнить то, что тебе поручили, — да об этом и помыслить мы не могли.
На мне лежала обязанность покупать для дома хлеб, картофель, мясо, другие продукты. А время было голодное, продуктов не хватало. За хлебом выстраивались очереди на целый квартал. Очередь приходилось занимать глубокой ночью, часа в три-четыре, когда самое время сна. Уйти было нельзя, часто проводились переклички. И если тебя в этот момент не оказалось на месте, ты выбывал из очереди.
Джолдошев работал Наркомом просвещения, но денег в семье не хватало, еле сводили концы с концами. У матери оставались кое-какие украшения, подаренные еще отцом, когда он занимался предпринимательством, — бусы, ожерелья... На них можно было обменять в Торгсине (Торговом синдикате), находящемся в сером одноэтажном здании на углу Фрунзенской и Советской, либо муку, либо какую-нибудь крупу. Конечно же, я шел вместе с матерью. Жизнь заставляла разбираться в вопросах покупки продуктов или обмена не только наравне со взрослыми, но подчас и лучше них.
Сейчас родители, во всяком случае, состоятельных семей, стремятся всячески оградить детей от домашних забот и хлопот. Порой помощь по дому превращается как бы в игру, хоть и интересную, но не обязательную, не повседневную. Конечно, мы не взрослели раньше, чем это происходит сейчас; и тогда, и сегодня — для любой матери или отца ты и в пятьдесят, и в шестьдесят лет остаешься ребенком.
Просто мы взрослели по-другому. К нам раньше приходила зрелость, самостоятельность. Раньше начинали семейную жизнь, причем, без разводов, навсегда. Раньше детей начинали растить. Больше уважали все профессии, может быть, потому, что на первое место ставили сам труд, а не социальное положение, не престижность, которые эта профессия давала. Мы как-то с детства больше чувствовали прочную, неразрывную связь со своей семьей и страной в целом. Даже невозможно представить себе, чтобы кого-то из нас с детства воспитывали, учили, подготавливая для работы и жизни за рубежом, в какой-нибудь другой стране.
У нынешних детей взрослость обычно проявляется в том, что они больше знают. Иной раз поражает их прагматичность, их умение просчитать свою личную выгоду там, где мы бы, пожалуй, искали общую пользу. В чем-то они дальше смотрят, просчитывают свои перспективы. В их планах семья, родители занимают гораздо более скромное место, чем это было у нас.
Я вовсе не хвалю свое поколение. Время было другое. Нам проще было уважать школу, учителей, потому что тогда" народное образование Киргизии только начинало развиваться, и все, связанное с ним, воспринималось как нечто новое, необычное, воспринималось совсем по-иному, чем теперь. Мы, например, завидев не улице учителя, непременно снимали шапку, никогда не забегали вперед него, перед входом в школу чистили, мыли обувь в специально выставленных для этого корытцах, а в классе, когда входил учитель, все поднимались, вытягивались в струнку, становилось тихо, — слышно, как муха прожужжит.
Нельзя не признать, что именно благодаря советской системе Киргизия стала республикой высокого уровня образования. А начиналось ведь с нуля, с ликвидации безграмотности, потому что до революции почти все население неумело читать и писать. Совнарком Туркестана в 1920 году издал и распространил повсеместно Указ на этот счет. Все, кому не перевалило за сорок лет, привлекались к учебе.
Мало того, что само обучение было бесплатным, так еще и сокращался при этом на два часа рабочий день с сохранением заработка. А в сельской местности, где сокращать рабочий день было нельзя, обучающимся предоставлялись другие льготы: внеочередные семенные ссуды, лучший сельхозинвентарь...
К 1922 году в Киргизии действовало 12 опорных пунктов по ликвидации безграмотности. Каждый из них был рассчитан на 25-40 человек, с которыми занимался один преподаватель. Любопытно, что обучающемуся выдавалось по одному листку писчей бумаги в день и по одной ручке на шесть месяцев.
В том же году принимается решение резко усилить подкрепление народного образования материальными ресурсами. И четверть общебюджетных средств стала направляться на просвещение. Четверть! По теперешним меркам это просто непредставимо. Нынче двадцатая часть кажется рождественским подарком. Всего за десять лет, с 1925 по 1934, было построено 400 школ. Немалая в том заслуга и моего зятя Токчоро Джолдошева, работавшего министром просвещения.
В советский период за семьдесят лет в Киргизии открылось 1800 школ, преимущественно средних, в которых обучалось 900 тысяч учащихся. И все они были абсолютно бесплатными. Государство всегда находило средства и на то, чтобы вовремя выдать зарплату учителям, и на то, чтобы провести текущий или капитальный ремонт школы.
Если в начале тридцатых годов, когда я начал учиться, в школе, на всю республику едва набиралась тысяча учителей, то уже в восьмидесятых их перевалило за 50 тысяч. Подавляющее большинство из них — с высшим образованием. Да и по уровню знаний, получаемых учениками, советская школа мало кому уступала в мире.
Говорят, что в ту пору были перекосы в сторону русских школ. Но так говорят лишь те, кто никогда не заглядывал в глубинку, в сельскую местность, а берется судить о республике лишь по столице. Вот факты: в те же восьмидесятые годы у нас действовало около тысячи школ с киргизским языком обучения, свыше 300 с русским, примерно сто с узбекским и несколько школ с таджикским. И множество было школ с параллельными языками обучения. Это полностью соответствовало демографическому раскладу в обществе.
Да и выбор-то все равно оставался за семьей. Меня, например, определили в русскую школу, а кого-то в киргизскую — это было право каждого. Обучение на русском ничуть не помешало мне сохранить и упрочить знание родного, кыргызского языка.
Моей первой учительницей была Юлия Яковлевна Курганова. Высокая, слегка полноватая, что придавало ей солидности, с темнорусыми волосами и красивыми чертами лица, прекрасно знающая свой предмет и внимательная, заботливая по натуре, она осталась в моей памяти на всю жизнь. Я на себе убедился, как много зависит от первого учителя. И твое отношение к школе. И отношение к учебе вообще, особенно к тем предметам, разумеется, которые он сам преподает.
К тому же в Юлии Яковлевне воплотились многие лучшие качества русского человека — верность своему долгу, доброта, чуткость, стремление помочь слабому... Впоследствии это не могло не отразиться на моем отношении к русским людям, с которыми постоянно связывала меня судьба.
Она была близкой родственницей Михаила Васильевича Фрунзе. Тогда уже самого Фрунзе не было в живых, и его таинственная смерть обрастала слухами. Потихоньку шептались, что его расстреляли в подвалах НКВД. Еще мало кто знал, что он умер на больничной койке при весьма загадочных обстоятельствах.
Под вымышленными именами история гибели полководца в больнице встретилась мне через много лет в книге Бориса Пильняка "Повесть непогашенной луны". Сталин и виду не подал, что узнал в героях книги и себя, и Фрунзе. Но сам Пильняк вскоре был неизвестно за какие грехи расстрелян.
Сразу после смерти Фрунзе, в конце 1925 года, Пишпек переименовали сначала во Фрунзеград, а спустя год город стал просто называться — Фрунзе. На киргизском языке того времени это звучало как Боронзо.
Помню, Юлия Яковлевна рассказывала нам о своем родственнике, ставила его в пример. Рассказывала, как еще совсем маленькому Мише Фрунзе Пишпекское местное самоуправление назначило Пушкинскую стипендию, чтобы он мог учиться в Верненской гимназии. Мальчик рано остался без отца, но уже все отмечали его склонность к наукам. Кстати, отец Миши, Василий Михайлович Фрунзе, который был военным фельдшером, тоже немало сделал для нашего города.
Юлия Яковлевна была очень внимательна ко мне, старалась облегчить усвоение материала, иногда оставаясь со мной для этого после уроков. Может, потому, что я плохо говорил по-русски, и мне было трудней остальных. Я все время чувствовал ее поддержку. Она не только научила меня читать и писать, но и помогла освоить основы русского языка. Сестра тоже со мной занималась, но моя первая учительница дала мне возможность познать особенности русского языка, ощутить его, что называется, вкус и аромат. А это могут дать только носители языка, те, кто впитал его с молоком матери.
Юлия Яковлевна была близко знакома и с моей сестрой, и с моим зятем. Их сближали общие заботы на ниве просвещения, которому они посвятили свою жизнь. Я всегда встречал ее с радостью и признательностью — и когда она стала потом директором нашей школы, и когда ее назначили директором Фрунзенского учительского института. Вспоминая сейчас о ней, мысленно добавляю к ее имени — светлая. Да, именно светлым человеком она была, Юлия Яковлевна Курганова.
Вспоминаются мне и другие учителя школы, в разные годы бывшие классными руководителями моего класса: Нина Михайловна Савруцкая — учительница русского языка и литературы, Тамара Томтовна Томара — учительница географии, Александр Викторович Курбатов — учитель физкультуры... Они тоже, как говорится, приложили руку к моему будущему. Здесь истоки моей любви к русской литературе; здесь, заинтересовавшись географией, я получил толчок к своей профессии эконом-географа; здесь уже твердо сложилась моя связь со спортом.
Первые друзья
Именно в школе я подружился с Левой Дмитриевым и Лидой Дурновой. Лева жил неподалеку от нас на улице Первомайской, и мы обычно вместе с ним возвращались после уроков домой. Его родители переехали куда-то в Россию, и след Левы затерялся. А вот Лида, окончив десятилетку, поступила в пединститут, работала учительницей. Несколько лет тому назад мы случайно встретились с ней на улице. Сразу узнали друг друга. Стали вспоминать нашу молодость, нашу родную школу, учителей, одноклассников, делиться своими сведениями, у кого из них как сложилась судьба.
С Анваром Абдрахмановым я подружился еще в детском саду. Мы жили на одной улице. Через какое-то время оказались в одном классе — то ли третьем, то ли четвертом. Сдружился я и с его младшим братом — Алешей. Их отец, Юсуп Абдрахманов, был председателем Совнаркома. У него были тесные контакты с Москвой. Это лично он пробил идею кыргызской автономности. Анвар и Алеша очень гордились тем, что их отец сидел в Президиуме рядом с Лениным, разговаривал с ним. Кажется, это было на третьем съезде комсомола в 1919 году, ведь Абдрахманов возглавлял в то время комсомол Туркестана.
Дед моих друзей Абдрахмановых был волостным управителем Пржевальского уезда. В числе остальных иссык-кульских манапов он сдавал деньги на строительство училища, которое потом с отличием окончил Юсуп Абдрахманов.
Когда повеяло смертельным холодом подступающих репрессий, мой друг Анвар вместе с родителями и младшим братом уехали сначала в Самару, а затем в Оренбург. Но все-таки и там добрались до их отца, арестовали. Они вернулись во Фрунзе. Жили в бараках за железной дорогой. Тот район назывался Шанхаем. Сам Анвар работал подмастерьем в художественной мастерской. Когда началась война, ушел на фронт. Вернулся больным. И он, и его брат Алеша прожили, увы, недолго. Они так и не дождались реабилитации отца и последовавших затем знаков внимания к памяти этого выдающегося сына кыргызского народа — установление бюста на аллее основателей кыргызского государства и название его именем одной из главных улиц столицы.
А в те годы мы с друзьями любили гулять по бульвару Дзержинского (Эркиндик). Этот бульвар обладает, по-моему, магнетической силой. Широкие аллеи, окаймленные рядами могучих дубов, словно концентрируют энергию, ниспосланную нам с небес. Жизнь крупных руководителей республики, выдающихся писателей, художников, композиторов, ученых так или иначе связана с Дзержинкой. Здесь на одной из скамеек можно было увидеть погруженных в размышления Аалы Токомбаева или Семена Чуйкова, Абдыласа Малдыбаева или Ису Ахунбаева, эти аллеи помнят летящую походку Бибисары Бейшеналиевой и твердую, уверенную поступь Булата Минжилкиева, здесь и сейчас иногда прогуливается вернувшийся из-за границы Чингиз Айтматов или не спеша проходит вечно пребывающий в думах и заботах Турдакун Усубалиев...
Для нас, мальчишек тридцатых годов, Дзержинка была как бы центром Вселенной. Все лучшее, чем мы тогда жили, было на Дзержинке. И школа, и кинотеатры "Ударник" и "Ала-Тоо", и танцплощадка. Сколько захватывающего, важного для — нас происходило на этом бульваре! И первый фильм, и первый танец, и первая спортивная победа на школьных соревнованиях, и первое крепкое рукопожатие друга, и первая, обращенная к тебе, улыбка какой-нибудь девушки.
Вечерами к Дзержинке стекалась масса народа. Бульвар уже в то время был для Фрунзе своего рода Невским проспектом. Люди приходили, как говорится, и себя показать, и других посмотреть. Было много молодежи. Но ребята с Дзержинки чувствовали себя хозяевами. Они задавали здесь тон. Не потому, что у многих из них отцы были крупными руководителями. А потому, что они, как правило, больше читали, больше знали, больше умели.
В молодости кровь кипит, никто не терпит чужого превосходства. Даже если оно оправдано. Мирное течение вечера иногда прерывалось вспыхнувшей дракой. Поэтому наряды милиции постоянно прогуливались по дубовым аллеям. Порядок тут же восстанавливался.
Вообще-то мест для отдыха во Фрунзе было очень мало, и те, у кого позволяли жилищные условия, по вечерам созывали друзей к себе домой. Если считать, что главное богатство человека — это его друзья, то зять с сестрой были необычайно богатыми людьми. Особенно часто у нас собирались писатели. Мать всегда накрывала стол. Писатели приносили с собой рукописи и читали вслух. Так получалось, что зять становился первым их критиком. Иногда он прерывал чтение деликатным покашливанием или жестом, делал замечание, советовал, что и как лучше изменить. Токчоро не скупился на похвалу, но мог, если произведение того заслуживало, дать ему резко критическую оценку. Помню, Касым Тыныстанов какое-то время дулся на него за высказанное негативное мнение об одном из его произведений.
Бывали у нас и сказители эпоса "Манас". Репетировали, советовались с Токчоро. Когда появились первые граммофонные пластинки, он повез акынов в Москву на запись. Заглядывали к нам почаевничать и известные музыканты — Мураталы Куренкеев, Токтогул Сатылганов, Калык Акиев. Их голоса, их выражения лиц — все хранит моя память. Приглашались также домой московские композиторы, дирижеры, музыкальные теоретики. Речь шла о создании ансамблей, обучении наших музыкантов, записи и издании киргизских мелодий и напевов.
Вполне понятно, что далеко не все советские граждане проводили таким вот образом свое свободное время. Всегда полны народа были базарные харчевни. Там подавали так называемый китайский "квас". Его готовили на маковых головках, поэтому "квас" действовал намного сильнее водки. Популярной была "кишмишевка" – закрашенный настой винограда. Этот напиток, привлекавший людей дешевизной, продавало местное товарищество виноделов. Ребята постарше хвастались, что могли пропустить по стаканчику-другому и ничего, держались на ногах. "Кишмишевка" значительно потеснила на рынке качественные вина из Молдовановки.
Одурманенные, опьяненные мужики придирались друг к другу, хватались за ножи. Окрестные жители, устав от ругани и драк, которые устраивали обитатели харчевен, обратились с просьбой к властям прикрыть эти заведения.
После того, как некоторые из них были закрыты, часть посетителей харчевен переместилась в "Русскую столовую ". Ее открыла артель бывших красногвардейцев, а отсутствие алкоголя компенсировал богатый по тем временам выбор блюд.
Все, более или менее заметное, что тогда происходило во Фрунзе, сразу становилось достоянием всех. Быстрее всего новости передавались тысячелетним способом — из уст в уста. Поэтому чему-то я сам был свидетелем, о чем-то узнавал из разговоров взрослых или от своих друзей.
— Слушай, Каип, — догнал меня в коридоре школы, где я прогуливался во время переменки, мой дружок Лева. — Идем после уроков на Красную площадь?
— Зачем? — спросил я. В ближайшие месяцы никаких праздников не ожидалось. Значит, парадов не будет. Чего же там смотреть?
— Мне сказали, что намечается нечто потрясающее. Но что именно, не сказали. Так ты пойдешь?
— Ладно, — кивнул я, заинтригованный неизвестно чем.
Красной называлась площадь возле Центрального сквера, в конце которого потом будет установлен памятник Сталина, а после разоблачения культа личности буквально в одну ночь его заменят на мирно беседующих Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Так вот, на этой площади был сооружен огромный деревянный барак. Его набили пустыми ящиками, коробками, прочей тарой, облили керосином и подожгли.
Оказывается, фрунзенская пожарная команда решила перед всем городским людом продемонстрировать работу огнетушителя "Тайфун-Гигант", привезенного в подарок рабочими московского завода.
Зрелище и вправду было потрясающим. Хищные языки пламени взметнулись до неба, готовые разом сожрать деревянный барак. Они напоминали дракона со множеством голов. Но вот по этому дракону ударила мощная пенистая струя, заставившая его биться в судорогах, а через полторы минуты и вовсе сдаться, позорно уползти восвояси.
В тот год, когда я пошел в школу, весь Фрунзе был покорен двадцатью грузовиками "Даймлер-Бенц". Они произвели настоящий фурор. Эти тупорылые немецкие машины, грузоподъемностью в три тонны, выглядели гигантами на фоне привычного глазу гужевого транспорта. Присланные Москвой для перевозки хлеба по трассе Фрунзе — Алма-Ата, грузовики повсюду, где были населенные пункты, сопровождались шумными ватагами мальчишек.
Тогда же средь нас немало толковали о капитане иссык-кульского парохода "Прогресс" и рабочем химического завода. Капитан удивил всех тем, что во время охоты совершенно неожиданно нашел рудное золото в районе села Ананьево. Многие подумали, что у нас в Киргизии золото валяется буквально под ногами. Чуть было не началась золотая лихорадка. Но власти через газеты, по радио дали понять, что находящиеся в недрах богатства принадлежат государству, покушаться на них никто не имеет права, и зуд по поиску золотого тельца прекратился.
Что касается рабочего, то зимой 1929 года он вышел во Владивосток, чтобы посмотреть, как живут народы СССР. А еще раньше этот человек начал свой путь с Украины, из города Артемовска, и прошел до Фрунзе пешком почти пятнадцать тысяч километров. По всей дороге он организовывал кружки Осоавиахима.
И еще один путешественник посетил Фрунзе в этом же году. Это был рабочий Токмин из Донбасса. В наш город он прибыл с Северного Урала, а туда — из Лапландии. Побывав во Фрунзе, рабочий отправился в Сибирь, на Камчатку, мечтая в дальнейшем обойти Японию, Америку, Австралию и Европу. После проводов рабочего, на которые собралось много народа, о нем вскоре забыли. И так никто из нас никогда и не узнал, получилось ли у него задуманное. Но шума было — выше головы.
Много разговоров, дошедших в ту пору даже до нас, первоклассников, вызвал первый съезд безбожников Киргизии. Участники этого мероприятия хотели переоборудовать под школы и клубы православные храмы и мечети, молельные дома баптистов и адвентистов седьмого дня. На том же съезде было принято решение разоблачать сектантов, которые, дескать, прикрываясь исполнением "Интернационала" и других революционных песен, исподтишка ведут религиозную пропаганду.
Едва поступив в школу, я узнал, что к нам ходит немало детей из "Интергельпо". Мальчишкам всегда любопытно, что же скрывается под столь таинственным названием? Вместе с Левой Дмитриевым и Лидой Дурновой мы выяснили, что это артель промысловой кооперации, основанная венграми, чехами и словаками. Они приехали во Фрунзе с семьями, чтобы оказать посильную помощь киргизскому народу в развитии промышленности. Сделано это было в ответ на призыв Владимира Ильича Ленина к рабочим капиталистических стран внести свой вклад в промышленное строительство молодой советской республики.
В кооперативе работали люди разных специальностей. Это они первыми стали развивать в Киргизии кожевенное и суконное, механическое и столярно-мебельное производство. Потом эти люди обжились здесь, да так и остались на киргизской земле.
Мне иногда думается: ведь существовало же тогда чувство истинной дружбы народов, стремление к бескорыстной взаимопомощи, взаимоподдержке. Пусть это называлось в ту пору классовой солидарностью, пусть в этом виделась политическая подоплека, но все это не так уж и важно. Важно, что люди, искренно желая помочь тем, кому было действительно трудно, снимались с привычных мест, ехали неизвестно куда, в чужую страну, где совершенно другой язык, другие традиции.
Сегодня, как правило, едут в страны побогаче, чтобы соответственным образом облегчить устройство своей собственной жизни. А это уже совершенно иной срез нравственности. Прагматизм такого рода напоминает дистиллированную воду. Она, безусловно, полезна, но в ней нет жизни, она безвкусна.
Запомнился мне председатель "Интергельпо", являвшийся одновременно заместителем председателя Кирпромсовета. Очень авторитетный и приятный венгр — Самюэль. На него просто невозможно было не обратить внимания. Он говорил с сильным акцентом, но зато очень громко.
Недавно я прочитал в "Вечернем Бишкеке", что многие из тех первых переселенцев покинули наш край и вернулись на свою историческую Родину. Хотя, кто знает, где у человека Родина — там, где он родился и откуда его, совсем еще маленького, увезли, или там, где он выучился, обрел профессию, состоялся как человек, влюбился, женился, где у него появились дети и внуки.
И еще в одной из газет мне встретилось интервью такого же "приезжего". Когда-то мы неплохо знали друг друга. Он играл в футбол за команду своей артели. Сейчас ему восемьдесят лет. Так вот, он говорит, что и не думает отсюда уезжать, не собирается никуда возвращаться. Здесь прожита большая жизнь, здесь его друзья, здесь, в общем-то, все, с чем накрепко срослась его память. Мол, не для этого еще родители его приехали в Киргизию, пустили корни в этом див¬ном краю, чтобы он потом все бросил и возвратился неизвестно куда и зачем. Как тут не понять, как не согласиться с моим давним знакомцем?
(ВНИМАНИЕ! На сайте размещена только часть книги)
Текст целиком можно скачать здесь
© Иванов А.И., 2003. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения автора
См. также на нашем сайте статью Г.Н.Хлыпенко
"Отечественная история в жизнеописаниях ее творцов"
Количество просмотров: 6604 |


