Главная / Поэзия, Поэты, известные в Кыргызстане и за рубежом; классика / Главный редактор сайта рекомендует
Произведения публикуются с разрешения автора
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 9 января 2012 года
Избранное. Том II
Во второй том избранных сочинений Бахытжана Канапьянова вошли оригинальные стихотворения поэта (1985-2006 гг.), а также его поэтические переложения произведений «Кер-Оглы» Жамбыла Жабаева, «Тукетай и Маникер» Кенена Азербаева, лиро-эпической поэмы «Кыз Жибек».
Публикуется по книге: Канапьянов Б. Избранное: В 2 т. – Алматы: ИД “Жибек жолы”, 2011. – Т. 2. – 536 с. Тираж 2000 экз.
УДК 821.512.122=161.1
ББК 84 (5 Каз-Рус) 7-5
К 19
ISBN 978-601-294-055-8 © Канапьянов Б., 2011
ISBN 978-601-294-053-4 © ИД “Жибек жолы”, 2011
Издано по программе «Издание социально-важных видов литературы» Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан
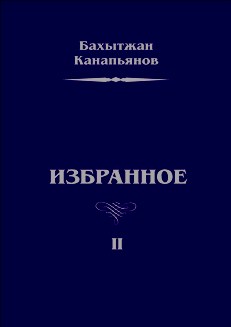
РАЗЛОМ ЭПОХИ И СУДЬБЫ
Пятилетие (1986-1991) оказалось для нашей республики судьбоносным. С кровавого декабря 1986-го, грозного Желтоксана, Казахстан начинает выходить на дорогу свободы. Как ни давила и ни устрашала партийно-идеологическая реакция, как бы жестоко ни расправлялся советский тоталитаризм с непокорной Прибалтикой, Азербайджаном, Арменией и другими очагами гражданского возмущения, дни советского крепостничества были сочтены – приближался 1991-й – год обретения национальной независимости, начала новой политической и культурной истории Казахстана.
Предчувствие великих перемен окрыляло, о трудностях и думать не хотелось. В такие эпохи художник испытывается на гражданскую зрелость – честность, мужество, гуманизм. Это было время Бахытжана Канапьянова, никогда не отделявшего себя от судеб своего народа, его культуры и литературы. К концу 80-х годов за плечами Канапьянова были уже Высшие сценарно-режиссерские (1976–1977) и литературные (1981–1983) курсы в Москве, работа на “Мосфильме”, потом в казахском кино в качестве режиссера, автора-сценариста, затем редактора издательства “Жалын”, литературного консультанта Союза писателей Казахстана. Вот когда его художественно-публицистическая и культурно-просветительская деятельность начинает выходить за границы своей страны и литературы, обретает профессиональные формы.
После Чернобыльской катастрофы в апреле 1986 года он добивается разрешения быть на месте события в составе группы казахстанских спасателей. В 1987 году в Алма-Ате и в 1989-м в Киеве будет опубликован его взволнованный лирический репортажный цикл “Аист над Припятью”, безыскусный, горький и сострадательный рассказ очевидца, наполненный гордостью интернационального соучастия в чужой беде, воспринятой как беда всеобщая. В 1988-м он опубликует перевод поэтичнейшего народного эпоса “Кыз-Жибек”, многолетний труд во славу своей национальной культуры. В начале 90-х возникает издательский дом “Жибек Жолы”, издательскую деятельность Бахытжан совмещает с активностью в области кино, в частности публицистически острой кинодокументалистики (“Балхашская сага”, 1990, и “Последняя осень Шакарима”, 1992) и “видеопоэзии”, как он сам называет свои видеофильмы. В них он находит свои приемы художественного сращения лирического текста, портретно-зрительного и ландшафтного рядов.
Об этой стороне его творчества нужно сказать особо: она органично входит в его художественное мышление. Здесь сам принцип художественного двуязычия, прежде всего сочетания разных художественных языков, обретает некую голографичность – слово и кинокадр как бы “просвечивают” друг друга, получают объемность слово-звуко-живописи. В этом, наверно, нет ничего сверхординарного, но дело не в этом. Так прокладывается своя тропинка к кинолирике, жанру трудному, потому что найти меру соответствия, соположения, сингармонии слова, звука и кадра – задача нелегкая.
Кино и литература у многих наших писателей идут рука об руку, правда, с преимуществом последней, но иногда драматургический, актерский искус (талант?) втягивают автора в игровую стихию фильма. Так, например, прекрасным актером показал себя Сатимжан Санбаев, сыгравший Алиби Джангильдина (“Дорога в тысячу верст”), Тезек-торе в телефильме о Чокане Валиханове, Аблай-хана (“Батыр Баян”). Конечно, задатками художественного синкретизма, скажем, типа Шукшина и Высоцкого обладают весьма немногие, но это только еще раз доказывает предрасположенность творческого воображения литератора к эстетической трансформации.
У Б. Канапьянова были и есть свои, казахские предшественники – тот же О. Сулейменов, по его сценариям было снято несколько художественных (“Земля отцов”, “Синий маршрут”) и научно-популярных фильмов. Бахыт Каирбеков тоже давно работает в кино и тоже после московских сценарных курсов снял несколько короткометражных философски глубоких художественных фильмов, а сейчас продолжает свой этнографический сериал о народных традициях. Так что есть и у кого учиться и с кем творчески соревноваться. А казахское профессиональное кино, как известно, добилось уже мирового признания.
В кино Бахытжан верен своим литературно-поэтическим принципам, но это не значит, что он попросту занимается их киноиллюстрацией. Что это за принципы? Они имеют общеэстетический, так сказать, художественно-концентрированный характер. Это острый, внимательный глаз и ассоциативная медитативность всегда движущегося, ко всему любопытного, неравнодушного авиа-авто-вагоно-кочевника. То же самое в его видеофильмах второй половины 90-х годов. Я сейчас оставляю в стороне более ранние историко-биографические фильмы его, например, об Абае, Шакариме, балхашской лагерной саге. В них гражданский лирико-публицистический пафос выходит на первый план. Но в фильмах последнего времени (правда, созданных после семилетнего перерыва: 1983–1990) прежде всего ощущается сокровенная, но сильная лиризация материала при помощи закадрового текста.
Бахытжан пробует разные варианты кино— и видеопоэзии: “туристские”, дневниковые или ностальгические (“Бессонница: Париж”, “Вольный город Франкфурт”), фильмы-кинопортреты (“День – Рафаэль” о Б. Ахмадулиной, “Скрымтымным” об А. Вознесенском, “Фут-боль” об А. Ткаченко) и, наконец, собственно исповедальная кинословолирика, когда автор (поэт) не только смотрит, но и говорит со зрителем при помощи своих стихов (“Ландшафты”). Я отдаю предпочтение последнему, потому что глаз, голос и душа автора здесь находят друг друга, как “части целого”, пользуясь образной формулой Б. Каирбекова.
Думаю, что Бахытжан шел к этому варианту совершенно закономерно: ненасытный поэтический глаз кочевника, конечно же, заставлял вспоминать словесную музыку французской или немецкой лирической классики. А как же иначе? Ведь после распада советской империи стало особенно точным поэтическое предвидение О. Сулейменова (еще советского времени) – “мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом”. Это была не только дань памяти, но и дань уважения – поклон странам и культурам другого, западного мира. В ландшафтах и строфах, которые привлекли кокшетауско-алматинского “кочевника”, так или иначе звучала память Родины: “чувство мира” – это не только опыт завзятого путешественника, это именно узнавание “себя в другом”, т. е. приближение к себе еще неизвестному.
Фильмы, посвященные поэтам-современникам Бахытжана, кому-то могут показаться дружеской видео-записью на память – знаком особой, сверхнациональной признательности. Что же зазорного в том, что поэт видит и слышит другого поэта, своего друга вместе со всеми (с залом, поклонниками, благодарными читателями)? Видит, как все, но, оказывается, очень по-своему. Вот, вдохновенно задыхаясь, читает Белла, не читает, а уже шаманствует, потому что слова превращаются в музыку голоса, и весь ее облик становится эманацией высшей поэзии. А. Вознесенский, напротив, человечески приближается к нам, с него снят обычный, уже как бы неотделимый от него налет вознесенского артистизма – в манере чтения, в жестах, взоре, даже неизменном шейном платке – и предстает он в кадре как неутомимый, вечно ищущий, – поэт, озабоченный снисканием доверия и духовного родства со своими читателями. Никакого панибратства, напротив – поэт-друг как бы приподнят над обыденностью, и Бахытжан откровенно, почти по-детски любуется его талантом, всей его человеческой сущностью. Но в этих и других фильмах кинопортретирование – на первом плане. Камера в этих случаях может быть безжалостной – все же возраст, все же обычные, не студийные условия общения операторов и режиссера со своими героями. Однако снято и смонтировано так бережно и в то же время так возвышенно-искренне, без ложной патетики, что читатель-зритель, знающий поэзию Ахмадулиной, Вознесенского еще с эстрадных 60-х годов, верит, что это они, теперь, может быть, уже не те кумиры его молодости, но тем не менее безусловные художники, уже ставшие гордостью русской литературы ХХ века. А с другой стороны, не так и часто наши кинематографисты создают кинопортреты писателей-современников. Кроме беглой и как бы случайной кинохроники, мы не имеем кинопортретов Л. Толстого, М. Горького, В. Маяковского, М. Ауэзова, Джамбула, Г. Мусрепова, О. Сулейменова и многих других.
Но в “Ландшафтах” Бахытжан создает авторский лирический кинопортрет в интерьере городской и природной современности. Это не означает, что фильм рассказывает о его жизни и творчестве. Отнюдь. Автор просто читает свои любимые стихи и читает их еще как тонкий искусный режиссер, и нам раскрываются тайны его поэтической души, его образное ассоциативное мышление. И тогда оказывается, что канапьяновская “бездомная цыганская муза” – это вечно беспокойная, странствующая мысль о мире и человеке, о его истории, современности и туманном завтрашнем дне. Многие стихотворения (пейзажные, любовные, исторические и т. п.), взаимодействуя с образным зрительным рядом, превращают красивый поэтический фильм прежде всего в лирическую исповедь. В ней голос поэта – это голос певца за сценой, но в этом-то и заключается вся суть – простая и, как всегда у Бахытжана, очень глубокая – смотри и думай или думай, слушай и смотри: мироздание одухотворено, и поэт насыщает нас этой духовностью во имя более совершенного, более человечного нашего бытия:
И прячась строкою в дискету,
Проступит на той стороне
Тот образ, что виден поэту
В небесном предутреннем сне...
Так аукаются друг с другом философская лирика и лирико-философский фильм одного и того же автора...
В трудную эпоху перемен (1986–1991), надежд и разочарований, на изломе времен особенно казалось да кажется еще и сейчас, может быть, – бывшим советским людям, как и бывшим советским писателям, – что наша большая братская история по имени СССР не только канула в вечность, но и унесла с собой навсегда то чудесное “чувство мира” – дружеского локтя и сердца, духовной общности поверх национальных барьеров...
Лирика Бахытжана Канапьянова – чуткий барометр общественного духосознания. Это он, ничтоже сумняшеся, просто и честно выразил смутное чувство потери и растерянности, когда мы еще только начинали осознавать, что распад Союза означал еще и распад гигантского адского ГУЛАГа:
Конечно, винить я не вправе,
Конечно, судить не берусь,
Но к этой сверхмощной державе
Семейная горечь и грусть...
...В степи,
Где останки Карлага,
Свою ли могилу ищу?..
Ностальгические и полемические размышления (“Суд поколений // Витийствует задним умом...”) приводят поэта к проблеме бесконечности наших человеческих усилий стать когда-нибудь свободными людьми:
Раба из себя изгоняем
Всю жизнь изгоняем раба.
Что?..
Заново все начинаем?
Такая ли наша судьба?
Активный возврат поэта в телекино, мобильный и массовый жанр, – еще одно художественное средство более демократичных и действенных контактов художника с современностью, особенно на ее крутых исторических поворотах. Только думающий, граждански беспокойный художник продолжает великую гуманистическую традицию, или миссию, рабоизгнания вовне и внутри нашего сознания. Безусловно, способствовало тому и включение Бахытжана в рынок с идеей бездоходного издания высокой, заведомо нерыночной литературы. И поэзия его, а также авторитет просветителя-бессребреника, патриота общечеловеческих культурных ценностей открыли ему пути и маршруты масштабного земного кочевья.
Вернемся в то нелегкое время середины 90-х годов, когда мучительно-безнадежно стоял вопрос – как выжить?.. Что делать?
* * *
Наши газеты недаром восторженно отметили выход сразу двух стихотворных книг Бахытжана Канапьянова. Еще бы! Появились они за пределами Казахстана, в разных концах света – одна в Москве (“Горная окраина”. М., 1995), другая “Время тишины” – в Бостоне (США, издательство “Фар энд Уайд”, 1995). Первая – на русском, языке автора, вторая – на английском (перевод американского поэта Петера Оресика) да еще с добрым напутствием Андрея Вознесенского.
Англо-русская наша газета “Время по Гринвичу” дала сенсационный заголовок – “Время тишины” Бахытжана Канапьянова начинает завоевание США”. Каково? По рыночным временам, в условиях нарушенных культурных связей, особенно книгообмена, даже с ближайшим зарубежьем – это факт, заслуживающий не только радостного удивления, но и серьезного внимания.
Английскую книжку Бахытжана, будем надеяться, заметят в Штатах и критика, и читатель, для нас же главный интерес, уже не экзотический, представляет его московский сборник. Не знаю, появится ли он в наших магазинах при тираже в 1000 экземпляров, но серия, в которой он вышел, “Рекламная библиотечка поэзии”, вероятно, специально рассчитана на внимание читателей, преданных поэзии и духовно, и профессионально. Издатели не поскупились на дорогую бумагу и отличное оформление – портрет автора на обложке, а в качестве иллюстраций – петроглифы Сары-Арки и Мангышлака, заимствованные из известного исследования талантливейшего, к сожалению, уже покойного Алана Медоева “Гравюры на скалах”. Так что уже по чисто внешним признакам в Москве вышла книга именно казахского поэта, восьмая по счету и в определенном смысле итоговая.
За двадцать с лишним лет поэтической работы восемь книг – немало, тем более что среди них и перевод на русский язык прекрасного лирического эпоса “Кыз-Жибек” (“Жалын”, 1988). Жаль, что автор не включил в свой московский сборник хотя бы фрагменты этой поэмы. Русскоязычные казахские поэты (Б. Каирбеков, К. Бакбергенов, О. Жанайдаров, А. Еженова и др.) переводческую работу не без основания считают творчеством, поэтическим мостом, связующим две культуры и два языка. Думаю, что и Бахытжан здесь не исключение.
В “Горной окраине” всего 42 стихотворения. Почти все они, по-видимому, принципиально датированы и образно воссоздают духовный мир поэта в его самых разных ранних и поздних проявлениях. Возникает впечатление миниатюрного избранного или лирического автодайджеста. Стихотворения последних двух-трех лет, конечно, преобладают, но между ними то и дело являются и стихи конца 70-х – начала 80-х годов, мотивы, которые, как видно, уже вошли в поэтическую кровь и плоть автора.
Это прежде всего мотив сыновнего покаяния, очень характерный для многих русскоязычных казахских писателей, особенно усилившийся в эпоху государственной суверенизации, хотя возникает он еще задолго до нее.
“Позабытый мной с детства язык, // Пресловутое двуязычие, // При котором теряю свой лик // И приобретаю двуличие”. В этих строчках 1979 года Бахытжан выразил общее чувство вины предельно емко и остро, вплоть до того, что почувствовал себя “недостойной сменой” своих степных дедов и отцов. В несколько туманном стихотворении 1994 года “Дорога дальняя...” мотив двойничества звучит глухими намеками на ту же боль и вину, как, может быть, и пафос отказа от авторства в другом (“На горной дороге в тумане”). И хотя автор в первом случае надеется подружиться и “без спора разобраться” со своею тенью, вероятно, городской, инокультурной ипостасью, – все же “невидимая ноет рана, // И не проходит стороной”, все же – “у меня права иные. // Мои права увез двойник”.
Если в юношеской лирике Бахытжана кони, увиденные его сыном впервые только в цирке, были символом утраченного, естественного детства, национальных корней, то теперь – это ностальгия, несколько притупившаяся от времени и знакомства с миром, разными странами, однако до конца не преодоленная. Тут, наверно, даже “чувство мира” не спасает. Можно ощущать себя “частицей Амстердама”, “сверять гекзаметром Афины” и видеть сигналы ангела “где-то над Гудзоном”, но все равно, как самозаклинание, главное – это остаться “придорожной пылью”, “кустом единственным” в родной степи, поклониться праху степной воительницы-амазонки...
Ах, эта маргинальность, это саднящее чувство внутренней чужеродности, или – как это еще можно назвать более деликатно и точно?! – “без вины-виноватость”? Уверения в своей преданности и патриотизме? Не игра же это в самом деле, не кокетство?
Творческое русскоязычие, в советское время очень модное и идеологически санкционированное, стало явлением обычным, как, скажем, за пределами нашей красной Родины англоязычие В. Набокова, Дж. Конрада, а у нас, в СССР, художественное русскоязычие Б. Окуджавы, Ф. Искандера, Ч. Айтматова, В. Быкова, О. Сулейменова и многих других. Как бы ни спорили критики, никто из этих писателей не утрачивал своего национального мироощущения, но являлся художником, сочетающим богатства разных культур. Что же в этом ущербного? Надо бы попросту гордиться, что в народе являются такие таланты космополитического свойства и попутно изживать националистическую подозрительность к ним, подобную советской классовой нетерпимости. Но, видимо, пока не все так просто. Хотя между прочим подобное покаяние, как правило, не свойственно поэтам и писателям, названным выше, в том числе и нашему Олжасу. Словно они вообще не придают значения языку собственного творчества. Но это, конечно, не так. “Все мы, – говорит о своем поколении русскоязычных литераторов О. Сулейменов, – хотели быть писателями национальными и интернациональными, все мы – в одной упряжке, хотя у каждого свои специфические задачи” (“Мы приходим, чтобы действовать”, 1981).
“Чувство мира” Бахытжан культивирует давно и сознательно. Расширяет географию своих творческих связей: до Америки его книги выходили и в Москве, и в Киеве; он отзывался на самые трагические события нашей современности (Чернобыль) и всегда стремился воочию видеть все, что не похоже на жизнь и быт его народа. Поездить пришлось ему немало, но туристом мира он не стал, потому что всегда ощущал себя, как напишет в стихах 1993 года, “кочевником с авиабилетом”, которому “земля мала для... странствий”. Вот, казалось бы, естественная эволюция национального сознания в нашу техническую и трагическую эпоху. Сознания именно национального, немыслимого и не мыслящего себя вне фольклорно-эпических истоков. Ведь уже в привычный ряд для самого поэта вошли многие бытовые и бытийные реалии нашего времени: “Заменю электробритву, // Напишу одну из книг, // Вспыхнет в памяти молитва, // Что когда-то пел старик”. Казалось бы, и ладно, и хорошо, “консенсус” найден, бытие на свой лад определило сознание. Но как раз в это мгновение случайной гармонии опять, словно тень расплаты, проходит очень блоковский мотив: “Мелькнула цыганкою в шали // Бездомная муза моя!..”
Так, в сердцевине лирического космоса “Горной окраины” все еще жжет своя невидимая рана. Впрочем, “бездомная муза” Бахытжана, его лирика стала теперь духовно более зрелой, умудренной. Как и раньше, она врачует свои и чужие страдания добрым утешением, светом надежды, упованием на согласие и красоту в нашем несовершенном общежитье. Но будучи внимательной и сейсмически чуткой свидетельницей истории, она несет в себе особый нравственный опыт или завет – никакие перемены не отменяют нашего прошлого, напротив, они восстанавливают духовную нравственность разных поколений и эпох. Может быть, с подчеркнуто есенинской интонацией, тоже ностальгически говорится об этом в прекрасном стихотворении “Спой мне песню из времен застоя...”, которое и заканчивается уверенностью в том, что залогом устойчивости и полноты нашего бытия являются самые простые и вечные ценности: “Спой мне, друг, одну из наших песен, // Излечи, как двадцать лет назад”. Это, пожалуй, самое верное средство преодолеть и чувство духовной маргинальности, и “разлом эпохи той, // Что, окатив волною, // Становится судьбой”. Средство верное, но, конечно, не единственное.
“Разлом” советской эпохи не стал для Бахытжана и его лирики катастрофой, которая выбивает из колеи. Он не был ее присяжным воспевателем, но и публично не отрекался от нее, как не торопился преждевременно радоваться свободе и демократии в обличии перелицованных партократов. Он писал стихотворные репортажи с места события – о трагедии Чернобыля и беззаветном, советском героизме “ликвидаторов”, переводил “Кыз-Жибек” и, может быть, под влиянием этой вечной народной песни о любви проверял нравственный актив, духовные основы своей лирики. На смену восторженному “чувству мира” приходило понимание его трагичности, а в ряду самых надежных и верных средств духовного спасения и выживания ему открывались, кроме песни и дружбы, еще и другие, старые, как мир, идеалы:
В этом мире пустом и безумном
Чист твой образ в оправе окна...
...Только вечны любовь да свобода,
Да под осень земные дары.
Вот так поэт извлекал из своей эпохи, из своей жизни ее “животрепещущую суть, // Разлом судьбы в ней различая”. Так сходились и сходятся в его лирике сдвиги социальные и личные. И не просто сходятся, а как бы естественно вытекают один из другого, роднятся по “несходству сходного”.
Виктор Бадиков,
2002 г.
Из сборника «Пространство циферблата»
(1985–1986)
СРЕДИ ЛИСТЬЕВ
Я не знаю,
Что за птица,
Птица
Крыльями прошелестела.
Или,
Может, это листья,
Листья
В кроне прячут ее тело.
А она
Не хочет, птица,
Птица,
В кроне лиственной гнездиться.
И крылами
В плену листьев,
Листьев
Машет, машет то и дело.
1985 г.
* * *
Меня увлекает ночами
Весенняя ветка в окне.
Небесными бредит огнями
Душа, что очнулась во мне.
Люблю эти запахи ночи,
Сирени живой аромат.
Судьбы незатейливый почерк,
Вдоль неба кочующий взгляд.
1985 г.
* * *
Грядущее – гряда
В прозрачной дымке гор.
Холодной кромкой льда
Мой беспокоит взор.
Эй, ветерок, развей
Случайную слезу!
Необозримость дней –
Долиною внизу.
1985 г.
ГОД ЧОКАНА
Год Чокана под знаком ЮНЕСКО,
В нем скрещенье эпох и дорог.
Шлет письмо в Сырымбет
Достоевский,
Чтобы поняли мы между строк
Нашей гордости грани таланта
И научных трудов его – суть,
Что лишает погон адъютанта,
Дав нам всем по-иному взглянуть
На начало его академий,
Что и значимо, и велико...
Раз в столетье – рождается гений,
Ну а мы – лишь потомки его!
Год Чокана под знаком ЮНЕСКО –
От Парижа до Алма-Аты.
Вот проходит проспектом
он Невским,
В нашу жизнь воплощает мечты.
И в айтысах,
Где песня струится,
И в анналах библиотек
Год Чокана
Не раз повторится,
Вырастая
В чокановский век.
1985 г.
* * *
Божественную перфокарту
Выдадут по логике Декарта.
И ломаную линию судьбы
Двумя координатами среды.
1985 г.
СПИРАЛЬ ДВИЖЕНИЯ
Тяжелая проза столетий
Спрессована в книжный формат.
А новорожденные дети? –
Из будущего
Их взгляд.
Из полураскрывшихся почек
Глядят удивленно сквозь тьму.
И слогом пришельцев лопочут –
“Откуда?
Зачем?
Почему?”
Раскроют тома они странствий
И, прячась с годами за шрифт,
Убьют в себе
неандертальца
И – прочий
космический
миф.
Страшит ли нас книг изобилье
И вся информация вширь?
И чтобы про это забыл я,
Тайгою поможет Сибирь.
Под белою тайною снега
Корни природы не спят,
Эпоху грядущего века
В недрах, быть может, таят.
Проступят на новой странице
Сквозь набранный судьбами шрифт
Моих современников лица,
Реальность,
поэзия,
миф.
1985 г.
* * *
Не только же тридцать седьмой?
Так было и раньше, и позже,
И это, и это тревожит –
А вдруг не пройдет стороной?
Не только же в тридцать седьмом,
Вина не в одном человеке,
А в чем-то безумно ином,
Что вбито, быть может, навеки
В сознанье под чьим-то углом.
Не только же в тридцать седьмом.
Конечно,
винить я не вправе,
Конечно,
судить не берусь,
Но к этой сверхмощной державе
Семейная горечь и грусть.
В степи,
Где останки Карлага,
Свою ли могилу ищу?
Казенная стынет бумага,
Я в буквы вчитаться спешу.
О господи!.. Суд поколений
Витийствует задним умом.
Там где-то рождается гений.
Все верно, но речь не о том.
Раба из себя изгоняем,
Всю жизнь изгоняем раба.
Что?..
Заново все начинаем?
Такая ли наша судьба?
1985 г.
ДИСКУССИЯ
– Да, мы виновны без вины! – вскричал в толпе прохожий.
Колючие глаза пусты, но взгляд – мороз по коже.
– Да, я виновен, что молчал громаду лет, быть может,
Поэтому не замечал все то, что нас итожит.
– Пусть в этом есть моя вина, наследие застоя...
– Дай силы мне, моя страна, я не прошу покоя.
– Настало время молодых, хотя судить не вправе,
Но будут ли коней своих менять на переправе?
1985 г.
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Мир распят перекрестьем визира – и обратный готовится счет,
Никому не угодная лира на руинах свой век отпоет.
Бродит ветер минувшей эпохи, юбилейных лишая наград.
Орудийный не слышится грохот... Слово молвит по разуму брат:
– Планетарий мой – пролетарий. Во Вселенной кочевье мое.
Под ногами космический гравий... Дай мне руку, отбросив копье.
1985 г.
* * *
Для семьи ждут годами жилища современные скифы,
Чтобы на очередь взяли – заявления пишут они.
И по норам квартирным друг друга по городу ищут,
И дыша в телефонную трубку, гортанные песни поют.
Вот и степь подступает к глазам из бездны телеэкрана,
И словно бы ржанье коня – на балкон их ночами влечет.
Сын коровий кумыс принес вечером из гастронома,
Глядя с портрета на внука, в усы усмехается дед.
1985 г.
ПЛЫВУТ ОБЛАКА
О ветер, ветрило, чему, господине,
веешь навстречу?
Плач Ярославны
Выйду из поезда – степь на все стороны света.
И – на земные края облака, облака оседают
И до синевы приподнимают эти земные края,
Стрелочник с сыном, клин журавлиный и молчаливый сурок,
Связи едины, незаменимы – вместе и в каждом живут.
О ветер, ветрило, чему, господине, веешь навстречу?
Горькую горечь джусана вдыхая, кану я за холмом.
И ветер развеет, как горсточку проса, мысли в пространстве,
Многовековая странствует стая – крылатые мысли.
– Скифы, спешите видеть того, чье слово было законом!
– Ветер возгласы носит из небытия, пали оковы.
Земля плачет древней травою, рельсы плач в бездну уводят.
Веселые птицы садятся на шпалы – и умирают.
По левую сторону я ухожу – и слышу стук сердца.
На правую сторону перехожу – спит балбала* с чашей.
И птичьим крылом я ладони сложу – и линию жизни
Вижу в ладони – будто с рожденья храню нить Ариадны.
1985 г.
(*Каменное изваяние)
ПОСЕЩЕНИЕ ДОМА ДЕТСТВА
Памяти няни
Спит няня моя – Исакова Евдокия Михайловна,
Я помню, как в школу меня по утрам она снаряжала:
Три учебника, стопка тетрадей, в пенале ручка с пером –
Это во имя того, чтобы слово в душе преломилось.
Чтобы, как яблоко осенью, я чувствовал слово на вкус,
Как глубину глаз материнских – я чувствовал слово на взгляд,
Как нянину песнь о России, я чувствовал слово на слух,
Грозою набухшего облака чувствовал слово на вес –
Это во имя того, чтобы слово судьбу продолжало.
Спит моя няня – Исакова Авдотья, дочь Михаила,
Жизни минувшей заботы здоровье ее подорвали.
И я как сиделка сижу у воздушной кровати ее,
Слово из детства буквами горло дерет, воздух глотаю,
Няня откуда-то издали молвит: – Твой раскрылся портфель.
1985 г.
ТЕЛЕМОСТ
Человека Новых Времен я пою.
Уолт Уитмен
И между державами лег телемост “Сан-Диего – Москва”.
В небо экрана дыша, ветераны войну вспоминали.
Плакал бывший солдат...
“Нет, не прошу я прощенья за слезы”, –
Молвил своим и далеким на той стороне океана,
Но также своим по встрече на Эльбе в году сорок пятом.
Ладони и взгляды тянулись сквозь бездну – друг друга понять.
“Ай лав...”, “я люблю”, я ловлю, я в мыслях вхожу в телефразы.
“Вы слышите? – Мы оставляем вам... – строчка Маклиша* плывет. –
...все наши смерти. Дайте значение им. Мы молодыми
были, Земля и земляне, помните нас...” – строчка над миром.
Вы слышите, слышите, слышите, слышите, слышите вы?
“Темная ночь, – в телецентре поют, – пролегла между нами”.
Поймет это первым поэт, поймут вслед за ним остальные,
Что значит держать на хрупких плечах между державами мост.
Атланты уходят. Их дети – земляне – глядят на экран.
Видят друг друга они, уходящие кадры эпохи.
Стоп-кадр. Два сына Земли обнимают друг друга до хруста.
“О кэй! – Будь здоров!” Элегантна небритость солдатской щеки.
1985 г.
(*Американский поэт-антифашист)
СИРЕНЬ
...За эту ночь она вскипела,
Взрывались гроздья на холмах.
Цветенью не было предела,
Как будто бы морская пена
Плескалась с листьями в садах.
С ограды каменной свисала,
Медуза раскрывалась ей.
Сирени гроздь в себя вбирала
И – нежной слизью пеленала
Средь отражаемых ветвей.
Рыбак ей хмуро улыбнется,
И девушка, томясь, вздохнет.
На солнцепеке дед очнется,
Пройдет без цели и – вернется...
О, как сирень в Крыму цветет!
И – чайки лепестки клевали,
В сирени чуя чешую.
И – корабли свой курс меняли,
Хотя об этом и не знали,
К весеннему стремясь огню.
Я ночь не спал,
Я утром видел,
Как своевольная рука
Сирень ломала без обиды –
Последние кусты Тавриды –
Царапалась она слегка.
На подоконниках,
в киосках,
В троллейбусах
и у кассирш,
Дух забивая,
что в авоськах,
Сирени запах
был душист,
Он стлался к морю
с горных крыш,
Он в ноздри бил,
и в небо стриж –
Ишь!
Желаю я ему,
шальному,
Найти сообщницу судьбы.
Стрижу все это незнакомо,
Стриж рвется из гнезда
у дома
На телеграфные столбы.
* * *
Я вспомню детство с тихим двориком,
Себя почувствую я школьником,
И от толпы отстану в тень.
Гурзуф. Кафе.
Сижу за столиком,
Где дышит
мертвая
сирень.
1985 г.
ДОЛИНА
Сержану Канапьянову
В долине таял образ дня,
Рождались тени.
Куст превращался возле пня
В рога оленя.
Бездонно следом ночь плыла,
Дышала тучей
Сквозь слой воздушного стекла
Над горной кручей.
Войду ли в ночь... Но белый конь
Скачком с кургана
Обронит и в мою ладонь
Росу тумана.
В ней возгорится образ дня
Лучом кристальным...
Все повторится без меня
В долине дальней.
1985 г.
ЛАДОНЬ
Ладонь твоя
раскроется...
Ты не считай столбы –
В одной долине
сходятся
Зигзаги гор,
зигзаги гор
И – линия судьбы.
Давай
друг друга
Вспомним
по линии
Ладони.
Узор на листе
зеленом,
Тропою уходят кони.
Не время сейчас погони,
Ты прячешь лицо в ладони.
А в сердце азарт
угона,
Не выпрыгнуть
Мне с балкона.
Не вскрикнет моя добыча,
Что поперек седла.
Ты скажешь: “Обряд – обычай
Скатился до ремесла”.
Давай
друг друга
Вспомним
по линии
Ладони.
И – линией реактивной
Небесный прошит простор.
И – низкие тучи –
гривами
Ложатся в ущелье гор.
И – брошено в почву семя.
Соприкоснулось время
С линией вдоль ладони.
Посевы не топчут кони,
Посевы не топчут кони.
На ипподроме
с ладони
Давай мы коня
Покормим.
Давай мы друг друга
Вспомним
по линии
Ладони.
1985 г.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Поэма-хроника
I
“Мой отец, Ахметов Арыстан, был заживо сожжен фашистами. Помогите мне, дочери погибшего воина, никогда не знавшей отцовской ласки, найти место его захоронения”.
(Из письма Меруерт Арыстановой, 27 октября 1984 года)
Простите за почерк,
что так неровен,
Где мой отец,
где мой отец
похоронен?
Кто вышел из боя,
вырвался
из когтей смерти,
Ответьте
ответьте,
ответьте,
Ответьте
по адресу,
что на конверте.
Командующий фронтом,
у Волги
ваш фронт пролегал,
Где могила отца,
где могила отца,
генерал?
Штаба начальник,
пехоты стрелковой
комбат,
Где похоронен
отец мой – солдат?
Бойцы и соратники,
однополчане,
Одною шинелью
укрывались
ночами,
Одну самокрутку
по кругу
курили,
Где вы отца
похоронили?..
II
“Сегодня мы вспоминаем Арыстана Ахметова. Кажется, он по-прежнему с нами. Еще звучит его длинная, как степная дорога, и мягкая, как июньский ковыль, песня. Мы знаем эту песню. Он сложил ее сам. Она была не совсем складна, но мы любили ее”.
(П. Н. Кузнецов, “Неумирающая песня”, 1942 год)
– Эй, Джангалы мои, Джангалы,
Над тобою парят орлы.
Скачут лошади на водопой,
Среди них жеребенок мой.
Джангалы мои, Джангалы,
В небе вольном живут орлы.
Смуглой девушки стройный стан
Вижу я сквозь густой туман.
Степь раздольная, края нет.
В юрте матери брезжит свет.
Джангалы мои, Джангалы,
Бьются насмерть твои орлы.
Аруана вдали плывет,
Знать, по нашим следам бредет.
Джангалы мои, Джангалы,
В дом вернутся твои орлы.
Джангалы мои, Джангалы,
Э-э-эй, Джанга-а-лы!
III
“Джангалинская степь. Он любил ее, он за нее воевал, ради нее он готов был идти на смерть. Западный Казахстан. Джангалинский район. Аул № 8. Родное гнездо вольного человека. Родной аул Арыстана.
Ушел он из блиндажа вот такой же темной ночью. Ушел выполнять боевое задание. Мы никогда не прощаемся. Мы любим жизнь. Мы боремся за жизнь. Мы верим, что друг вернется. Мы хотим, чтоб он обязательно вернулся.
В прощании же всегда скрыто что-то печальное. И Арыстан знал фронтовой обычай. Вскинув автомат, он весело присвистнул и сказал: “Ночь наша, и утро будет наше! Э-э, Джангалы, Джангалы...”
(П. Н. Кузнецов, “Неумирающая песня”, 1942 год)
Ночь и утро будут
нашими,
И Победа,
что вдали.
От имени живых
и павших,
От имени родной земли
Я клянусь,
что буду биться
До последнего врага.
Волчьей стае, нет,
не скрыться,
Буду бить наверняка.
В рукопашной схватке
буду
Духов предков
я достоин.
Арыстан* я,
грозен всюду –
Армии Советской воин.
Я вернусь в аул с наградой,
Напою коня у речки.
Только вот
расправлюсь
с гадом,
Мне не страшен
вражий кречет.
(*Лев)
IV
“И он вернулся к нам. Вернулся наш верный, боевой друг. Вернулся в рассказе, в песне. В неумирающей песне о мужестве, о величии советского человека”.
(Из сборника “От Алма-Аты до Берлина”, 1945 год)
– Эй, Джангалы мои, Джангалы,
Из ночной вы встаете мглы.
Вижу я в глубине родника –
Жизни прошлой плывут облака.
Над Уралом, я вижу, утес,
У которого в детстве я рос,
И с которого прыгал в Урал,
И целебные корни искал.
Джангалы мои, Джангалы,
Выбил надпись на кромке сиялы:
Арыстан я, Ахмет-улы.
Видят надпись твои орлы,
Джангалы мои, Джангалы,
А-а-ай, Джангалы!
V
“Арыстан был в бою. Горстку храбрецов окружил батальон фашистов. Ни один из бойцов не дрогнул. Не отступил ни на шаг и Арыстан. Он был тяжело ранен, но пока в диске оставались патроны, его автомат сеял смерть в гитлеровских цепях. Фашисты пошли в атаку. В ответ им неслось страшное “Ура!” Но бойцы не поднимались. Они не могли подняться. Их было только 19 против батальона. Одиннадцать убитых и восемь тяжело раненных. “Ура” кричали раненые. У них уже не было патронов и иссякли силы. Но они не сдавались. Они ждали минуты, чтобы зубами вцепиться в горло врагу или ногтями вырвать ему глаза. Так поступают раненые степные орлы и барсы”.
(П. Н. Кузнецов, “Неумирающая песня”, 1942 год)
Из девятнадцати солдат
Осталось восемь.
Не надо никаких наград,
Никто не просит.
Была бы родина жива,
Да семьи живы...
И, вслушиваясь в их слова,
Поникли ивы.
Их восемь раненых бойцов,
Не встать в окопе.
И – окружают степняков
Псы из Европы.
– Ур-а! – поможет клич отцов
И наших предков...
Их восемь раненых бойцов
У Н-отметки.
В неравной схватке – Аруах!–
Деды кричали.
И – убивали в себе страх
И тень печали.
Не знал, наверно, Нибелунг,
Не знали в Риме,
Что жив веками этот дух –
Неистребимый.
И, лежа там спина к спине,
В плен не сдавались.
– Ура! – неслось в сплошном огне,
Бойцы сражались.
VI
“Арыстан был взят в плен. Его допрашивали. Ему обещали жизнь. Он ответил немецкому офицеру:
– Для джигита продолжение жизни есть геройская смерть. Когда лает собака, джигит или убивает ее, или молчит.
Героя пытали долго и ухищренно. Ему отрезали ухо. Ему выбили зубы. Он вместе с кровью выплюнул их в пьяную морду изверга и крикнул:
– Батыры не сдаются и не умирают!
Он был еще жив, когда его, истерзанного сатанинскими пытками, кровавые жрецы свастики облили керосином и подожгли. Страшный костер средневековья!”
(П. Н. Кузнецов, “Неумирающая песня”, 1942 год)
Сжигают заживо бойца,
Облив бензином.
Уходит в небо плоть отца
Зеленым дымом.
И, ярым пламенем дыша,
Над стаей волчьей
Бессмертная парит душа
Глубокой ночью.
Жить! – птицей,
облаком,
звездой,
Чтобы не меркла,
Во имя Родины одной
Восстав из пепла.
Какой ты нации,
солдат,
Сейчас не важно.
Ты – фронтовик,
по крови брат
Живых и павших.
За землю русскую ты пал,
И в слове – “русский”
Сыновний долг свой понимал
В бою под Курском.
И под Москвой, и под Орлом,
И у Смоленска,
И под воронежским холмом
В поселке Н-ском.
Во имя Родины одной,
Во имя жизни
Все встали нации стеной,
Крепя Отчизну.
Пал Арыстан Ахмет-улы,
Сын Казахстана...
Живет в ауле Джангалы
Дочь Арыстана.
VII
“Арыстан Ахметов, наш верный друг, товарищ, вернулся неумирающей песней. Слушай эту песню, родной Казахстан, слушай ее, привольная Джангалинская степь. Эта песня зовет на подвиги во имя нашей Отчизны”.
(Из сборника “По путям-дорогам фронтовым”, 1965 год)
– Эй, Джангалы мои, Джангалы,
В степь вернулись не все орлы.
Стал конем жеребенок мой.
И, быть может, в июльский зной
К водопою ведет табун
Он под звуки печальных струн.
Степь раздольная, края нет.
В доме дочери вспыхнул свет.
Будет имя мое в ней жить,
Доброй памятью ей служить.
Аруана вдали плывет,
И, быть может, мой прах найдет.
Буду облаком и звездой,
Прочитаю я в час ночной
Надпись,
что на краю скалы:
Арыстан я, Ахмет-улы.
Джангалы мои, Джангалы.
Станет взрослою дочь моя,
Станет щедрою степь моя,
Станет житницей Казахстан,
Это я говорю – Арыстан”.
VIII
“Сегодня мы печатаем один из многочисленных фактов чудовищного зверства гитлеровских бешеных собак. Они захватили в плен 8 раненых красноармейцев-казахов и, после зверских пыток, заживо сожгли их в огне.
Среди погибших можно было распознать Аминова Утеу, Джубанова Сагибата, Ахметова Арыстана, Дюкешева Аймаша, Бекбулатова Джубана...”
(“Отан ушин – за Родину”, красноармейский листок, 3 октября 1942 года)
Вдали от очага родного дома
Степные погибали сыновья.
И шла в аул бумага военкома.
Каракагаз – что острие копья.
Так были им слышны раскаты грома,
Что всполохи далекого огня
Доходят и сквозь время до меня
По карточкам семейного альбома.
И безымянных нет в стране курганов,
Все меньше с каждым годом ветеранов,
И – врезаны их имена в гранит.
И мальчик, что родился в утро мая,
Тропинкою бежит, не понимая,
Что память о войне и он хранит.
ЭПИЛОГ
“...я не знаю, где похоронен мой отец”.
“...помогите найти могилу брата”.
“...мы, внуки, не знаем, где погиб наш дедушка”.
“...вот уже пятьдесят с лишним лет жду возвращения сына с войны”.
(Из писем)
У Кремлевской стены
спит
Неизвестный солдат.
Он чей-то – отец,
чей-то – муж,
чей-то – сын,
чей-то – брат.
И сквозь Вечный огонь
я вижу,
как матери ждут,
И сквозь Вечный огонь
я вижу,
как вдовы бредут.
Рядом дети войны,
держа их за локоть,
идут.
Они в городе каждом,
в каждом районе
живут.
Они, дети войны,
старше
своих отцов,
Что пали в бою
неизвестною смертью
бойцов.
И – к сердцу Отчизны
друг друга
они провожают.
Где дед похоронен? –
Не знают.
Где отец похоронен? –
Не знают.
Где брат похоронен? –
Не знают.
Где сын похоронен? –
Не знают.
И – на ЭТУ могилу
Цветы родных мест
Возлагают.
Вечная память!
Вечная память!
1985 г.
В ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕВОДА “КЫЗ ЖИБЕК”
Бабá Тукты Шашты Азиз,
В моей поэме обернись.
Гаип Иран кырык шелтен*...
О, перевода тяжкий плен!
Алкисса**,
я ставлю точку,
За последней вижу строчкой,
Что кони вновь берут разбег
По следу славной Кыз Жибек.
1985 г.
(*Баба Тукты Шашты Азиз, Гаип Иран кырык шелтен – традиционные персонажи казахского фольклора)
(**Алкисса – присказка)
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
...с первого апреля стрелки часов переводятся на один час вперед.
Из недавних газет
До сих пор не укладывается в голове, что, вылетев на сверхзвуковом лайнере ТУ-144 из Алма-Аты в Москву, можно было прибыть в белокаменную за один час до вылета. Ибо время лета между столицами на этом супергиганте составляет два часа, а Алма-Ата опережает Москву на три часовых пояса. Быть может, это и послужило первым толчком для написания этой поэмы.
Не так давно у нас в стране стали вводить летнее время. Первоапрельские шутки сменялись неразберихой, вызванной передвижением часовых стрелок. По воле Главного управления точного времени первого апреля пропадал целый час на циферблатах, а наш световой день увеличивался на весь шестимесячный период. Противоречие, но факт. Я попробовал использовать этот мертвый час (все одно, он никому не нужен) в этой поэме, заложив в него несбывшиеся помыслы и желания лирического героя. Как мне кажется, образная пропажа часа адекватна исчезновению той раскованности в реальной жизни нашей, которая присуща детству. И – поэтическому мышлению, ибо в стихах зачастую исчезает время как таковое.
Передвигая стрелки, мы как бы ищем свой двадцать пятый, звездный час в объеме наших суток. И этим самым совмещаем плоскость циферблата со световым пространством. Перевод стрелок, быть может, впервые в нашей жизни разрушил догму условной необратимости времени.
“Что есть время? – вопрошал Ф. М. Достоевский. – Время не существует, время есть цифры, время есть отношение бытия к небытию”.
Противоречия Декарта, всю жизнь доказывавшего существование внеземного разума, не помешали ему выявить свои начала философии, высказать закон сохранения количества движения, создать пространственную систему координат, которой пользуются и ныне. В нашем пространстве декартовы координаты – икс, игрек, зет, где от причины зависит следствие, или, говоря языком математиков, от переменной икс зависят функции игрек и зет. “Мыслю, следовательно, существую”. Декарт сам, с точки зрения философии, объяснил свои координаты.
От причины зависит следствие. Причина влечет за собою диалоги мышления. Одни воспоминания сменяются другими, обрастая потоком информации не только о прошлом и настоящем, но и воспоминанием будущего.
Декарту вторит Спиноза, этот ярый атеист, по утверждению В. Хлебникова, создавший в своей “Этике” закон ассоциативного мышления: “Если человеческое тело подвергалось однажды воздействию одновременно со стороны двух или нескольких тел, то душа, воображая впоследствии одно из них, тотчас будет вспоминать и о других”.
Спиноза, приписав своей субстанции два атрибута – протяженность и мышление, наделил ими всю природу.
Но вернемся к нашему мертвому часу. Не так уж он мертв, этот час. С наступлением осени, когда стрелки часов отведут назад, нам всем дается возможность прожить его повторно, вспоминая и исправляя ошибки судьбы и частично воплощая, хотя бы в мыслях, невоплощенные мечты.
В поисках нашего “утраченного времени” мы посредством души направляем поток сознания в океан памяти, обретая тем самым бессмертие...
Вспомните то, что дарят нам книжные полки мира. Вспомните то, что дарят нам археологические раскопки и древние памятники человеческого духа. Вспомните себя. Ведь вы прожили не одну жизнь. Во имя этого я дарю вам час своей поэмы.
Когда я описывал свое “летнее время”, то жил на границе города и гор. Справа горные вершины, слева город жил в долине. Или наоборот. В одну из ночей с сердцем происходило что-то неладное. Сердечная недостаточность? Аритмия? Может быть. А не вызвано ли это опережением на один час алма-атинским декретным временем, введенным в 1930 году, конкретного времени? Быть может, мы опережаем свое бытие, установленное нам природой? Как знать...
1985 г.
ПРОСТРАНСТВО ЦИФЕРБЛАТА
I
Вновь исчезает час на циферблате,
Мы переводим стрелки перед сном.
Он звездному пространству незнаком,
Не подчинен движенью звезд на карте.
Рождает тень фантазии кругом,
Доносит лай пса Банга при Пилате,
Пронзает мир невидимым лучом, –
В нем дух больного из шестой палаты.
Поэзии, быть может, этот час,
Что заронила в каждого из нас
Веками не потравленное семя.
Апреля запах бродит в тишине.
Ветвь почками усеяна в окне,
Знать, летнее нагуливает время.
II
На мертвый час в стране
Мы переводим стрелки.
Он оживет в окне
Скачком веселой белки.
В пещере на скале
Не скифами ли выбит
Олень?
Мчась по земле,
Он
в наше время
выйдет.
Китайская стена
Разрушена веками,
Чтоб даль была видна,
Дышала перед нами.
Кочевница моя
Из пятого столетья
На острие копья
Филе подносит детям.
Монголов доля в них
И интеграл арабов
Ваш подсчитают лик –
От прозы и до ямбов.
Заморский гость крылат,
Он пращур дельтаплана.
И – тыщу лет назад
Со мной он строил планы:
Слетать на Дельта-Икс,
Вернуться в наше время...
Поэзия – где риск,
Все остальное – бремя.
Искусство дикаря
Непонято и нами.
Мы по нему не зря
Всю жизнь
сдаем
экзамен.
Маэстро чистый звук
Услышал в вое братьев...
Так разрывают круг
Устоев и понятий.
Так из толпы талант
Опережает время...
С победой,
музыкант,
Все остальное – бремя.
Хаджи, хан, конокрад,
Султан и египтянка...
Кто встрече предков рад
На часовой стоянке?
Каких же духов тени
Перемешали время?
Победа – добрый гений*,
Все остальное – бремя.
Спасет ли память семя,
Неистребимо всеми,
От Ныне и до Оно?..
О, вечной жизни лоно!
(*Гений – заимствовано из немецкого языка, где Jenie значит “дух”. Восходит к латинскому genins – ангел-хранитель, образованному от глагола gigno – рождать, производить)
III
Не летнее время,
но летное время,
и вместе со всеми,
кто в час этот ожил,
ремнем пристегнувшись,
в полете, быть может,
мы время в пространство,
мы время в пространство,
мы время в пространство
Заложим...
КООРДИНАТЫ
И в шутку и всерьез
Наша жизнь,
что вдоль абсциссы,
Обновляется в год Крысы.
Ордината всякий раз
Опрокидывает нас.
А мы стремимся к точке “зет”
Свой не один десяток лет.
Наша жизнь, что вдоль абсциссы, –
Будни, труд, судьбы капризы,
Ордината нам нужна,
Но не каждому дана.
Направлен вектор к точке “зет”,
Не в нем ли творчества секрет?
Наша жизнь,
что вдоль абсциссы, –
Ялта, море, кипарисы.
И нам долги в глаза глядят –
Как множество координат.
Мы вновь стремимся к точке “зет”,
Хоть ничего в карманах нет.
Наша жизнь,
что вдоль абсциссы,
Сценой служит для актрисы.
В поисках координат
По телеку стихи звучат.
Нам ни к чему входной билет
На телешоу “Точка зет”.
В нашей жизни
вдоль абсциссы
Струйку слышал биссектрисы.
Нагляднее координат –
Двойной параболою зад.
Соприкоснувшись в точке “зет”,
Поймет ли отрока поэт?
Наша жизнь,
что вдоль абсциссы,–
Кулуарные репризы.
Там детства друг отводит взгляд,
Разрушив связь координат.
Мы дружбы нашей ищем след,
И он ведет нас к точке “зет”.
В нашей жизни
вдоль абсциссы
Жен, детей мы видим лица.
Вот лучшая из всех наград –
Системою координат.
С годами ближе точка “зет”,
Хоть далеко до званья дед.
После жизни вдоль абсциссы
Лента траура ждет визы.
Звездой над памятником – даль,
Где ординатой – вертикаль.
Как точка жизни нашей – свет –
Мерцает где-то в небе “зет”.
IV
Идет прохожий вдоль домов,
И в одночасье
Он с верхних слышит проводов:
Ты – не участник.
Бесцельно прожиты года,
Убиты бытом,
Но в этом малая беда,
От всех событий
На расстоянье был,
вдали,
Был не в ударе.
Страх со страховкой
сберегли
На тротуаре.
Возможность есть за этот час
Поправить что-то.
Будь представителем от нас
Ты в дни полета.
Махни рукой на мнимый страх
И на проблемы.
И – взмах руки,
как крыльев взмах
Для этой темы.
V
Как будто бы в трехгранной призме,
Прозрачной,
чище,
чем слеза,
Координаты организма
Находят гения глаза.
Ты расшифруй тепло ладоней,
Святое наложенье рук.
Что называем биополем,
То поле жизни спит вокруг.
Читал я в детстве “Лаутензаков”,
Но я тогда еще не знал
О хилерах иного знака.
Так что же в жизни идеал?
Когда во имя духа тела,
Под знаком звездного ковша,
Мы жаждем,
чтоб
душа
в нас
пела;
Необъяснимая душа.
VI
Все мечется по клетке атом,
Предвидя времени распад.
Я с внеземным, быть может,
братом
На той орбите встрече рад.
Взгляни потусторонним взглядом,
Сняв маску своего лица.
Твоя любовь – вдали и рядом;
Как цель небесного Стрельца.
VII
Причина, следствие – в итоге
Воссоздается идеал.
Декарт,
Не разуверясь в боге,
Трактат пространства
Начертал.
Иную крайность порождает
Земная крайность бытия,
Что души наши обжигает
Хаосом
древнего
огня.
VIII
Хотят все заново прожить
Судьбы отрезок.
Желанья и мечты сложить –
На недовесок.
Другими были мы вчера,
Другими были.
Какие были вечера,
Как мы любили.
Какие помыслы влекли,
Какие дали.
Какие в море корабли
Во сне видали.
Нас мир из детского двора
Тянул в эпоху.
Другими были мы вчера,
Да не ко сроку.
Вновь приютила до утра
Меня подруга.
Какими были мы вчера,
Какая вьюга!
Советам матери внимал
После расплаты.
И плакал я и обнимал
За шею брата.
Другими были мы вчера,
Другими были.
Такие вышли нам ветра,
Что щеки стыли.
Пусть эти строки я не раз
В народе слышал,
Весна им вторит в этот час
Капелью с крыши:
Другими были вы вчера,
Другими были.
И там, в иные вечера,
Как вы любили.
Смахнем мы наважденье с глаз,
Не время тризны.
Живем,
и дан
нам
этот
час –
Во имя жизни.
Нам жить, что воду родника
Глотать горстями.
Свои грядущие века
Мы наверстаем.
Бежит невидимая нить
От сына к внуку.
И как им заново прожить? –
Пройдут науку.
Иными будем завтра мы,
Другими ль будем?..
Обсудят трезвые умы,
И мы – обсудим!
IХ
Так что же этот час,
Он дважды нами прожит?
И в каждого из нас
Свои он дубли вложит?
Завод и комбинат,
Горняк,
работник треста,
Вы этот час в наряд? –
Ведь для него нет места.
И выработку в план
За этот час не вносят.
Вне плана наш талант,
Просвет он – между сосен.
Материя мертва,
Что без пространств
сознанья,
Разумна и трава,
Встает на свет желанья.
Часы я разбирал,
Колесики, пружины,
Вчерашний час искал,
Мне скажут – без причины...
(Причины бес во мне сидел
И двигал стрелки.
Я это время пролетел
В своей тарелке.
И не в своей тарелке я,
Как говорится,
Увидел контур корабля,
Что все мне снится.)
Быть может, двадцать пять
Часов таится в сутках?
Мне где его искать,
Не потеряв рассудка?
Х
Я ставлю точку. И – в долгу
Вновь перед всеми,
Что толку изводить строку? –
Так сверим время.
Вам сдвиги эти взад-вперед
Не надоели?
Влияют ли они на ход,
На дни – недели?
Быть может, сдвиги взад-вперед,
Как сдвиг по фазе,
Но верю – мысль не умрет,
Что выйдет к фразе.
Так сверим время на руках,
На башне в сквере,
В метро, на кухне, на углах –
Часы мы сверим.
И часовые пояса
Нам не помеха.
Точны бы были – полюса –
Залог успеха.
Кто право дал менять часы
И двигать стрелки,
Тот на контрольные весы.
На их тарелки
Субстрат, субстанцию кладет,
Как недовесок.
И каждый там из нас найдет
Судьбы отрезок.
Желанья, помыслы свои,
Что в нас погасли,
На точные весы легли
В ячейки-ясли.
Но почему же мы глаза
От них отводим?
Что пала на весы слеза,
Мы не находим,
Слеза,
а в ней соленый вкус
Невоплощенья,
Все был тяжел,
стал легким груз
От просветленья.
Слеза оставленных надежд,
Слеза желаний.
И в ней родительный падеж
Ждет расставаний.
И вдоль щеки ей выпал след
В сети морщинок.
Вздохнем,
глубинный видя свет,
Свет, что в глубинах.
Знать, сдвиги эти взад-вперед
Тому виною,
Что каждый встречный встречи ждет
С самим собою,
Каким ты был вчера, мой друг,
Каким ты будешь?
Устоев и понятий круг,
Как в нем ты кружишь?..
ХI
Не исчезает час на циферблате,
Назад отводим стрелки перед сном.
В палате вижу Мастера в халате,
Он рукопись сжигает на потом,
Предвидя рок, размноженный в печати.
Огонь страницы лижет языком,
Тень в пепел превращая над столом,
Не ведая в грядущем о расплате.
Вселенная, в твоих глубинах свет
Не исчезал за миллионы лет.
Быть может, наполнял он строки эти.
На сердце, как в ладони, свет приму,
Впервые в своей жизни я пойму,
Что свет звезды живет и после смерти.
1985 г.
КОСМОСТАНЦИЯ
Космический пророчит рейс
В моих ладонях эдельвейс.
В окне мигала мифическими огоньками космостанция, расположенная на одной из вершин Заилийского Алатау. Там астроном Рашид вникал в вечную поэму звездного неба. Принесенные мною эдельвейсы, что цвели по соседству с лабораторией, несмотря на уютное расположение между томами всемирной истории на книжной полке, не желали в ней – в истории – оставаться. Они направляли крохотные лепестки антенн в сторону своей родины – космостанции. Я это не столько видел, сколько чувствовал. Быть может, это им и помогало перезимовать, не умирая до следующей весны.
Они и сейчас там, на книжной полке, как ценнейший букинистический экземпляр Космоса. Живут, дыша цветами вечности. Лишь вода в стаканчике периодически окрашивается в желтый цвет печали.
Прав поэт, однажды воскликнувший: “И небо – в чашечке цветка”.
...Синусоида экрана,
Волны ледников.
Падает звезда
вне плана
На чей –
не знаю –
зов.
Звездную задачу неба
Астроном Рашид
Во имя
будущего
хлеба,
Может быть,
Решит.
Спит недалеко отара.
Ущелье между гор –
Трещина
земного
шара
С наидревнейших пор.
Космостанция,
тень Ноя,
Звезды и Гомер.
Пес на небо ночью воет –
На смещенье сфер.
По легенде, эдельвейсы –
От паденья звезд.
У костра со мной
погрейся,
Мой чабанский пес.
У костра глотаю главы
Книги бытия.
Кони чувствуют облаву,
Жмутся у ручья.
Над горами звезд отара.
Друг Рашид – чабан.
Этого не знает дара,
Глядя на экран.
Шорох звезд
сквозь разговоры,
Может, слышит там.
Мы идем продолжить споры
В гости к чабанам.
Утром в город я уеду.
Эдельвейс-цветок
С книжной полки
рвется к свету –
Звездный бродит ток.
Так древние трактуют веды,
Бессмертные в веках...
Зову, Рашид, тебя к обеду,
Ты слышишь зов в горах.
1985 г.
* * *
Я шороху Вселенной внемлю
Среди вершин.
Насквозь пронизывает землю
Поток нейтрин...*
1985 г.
(*“О” – не только недописанное окончание, но и нулевая масса нейтрино)
ПЕРЕКРЕСТОК
На линию судьбы ребенка
Легла снежинки шестеренка.
Снег плыл вертикально. Шестеренки снежинок вращали цветущую, такую привычную майскую весну в Алма-Ате вспять. Они сливались со цветеньем урюка – этого вечного ускорителя весны, ибо расцветает он раньше, чем распускаются его листья.
Снег забивался в зеленые кудри яблонь, и они ломались, как обледенелые крылышки птиц.
Снег ложился на ветви, и те, не выдержав снежной бездны неба, рушились, оставляя на стволах незаживающие шрамы трагедии. Одно дело прогнуться осенью под тяжелыми дарами природы, и совсем другое умирать цветущей ветвью в арыке, утопая в сугробе.
Снег плыл вертикально. Шестеренки превращались в маховики снега и лепились к часам на башне Главпочтамта. Стрелки показывали вечность, ибо они остановились, да их и не было видно под снегом.
Снег плыл вертикально. Все меньше машин спускалось с холмов реальности. Пробивая пелену тумана желтыми фарами, они исчезали за перекрестком в белой мгле, изредка мигая стоп-сигналами тревоги.
Снег плыл вертикально. Среди невидимых стен в квадратах освещенных окон, как на семейных фотографиях, проступали испуганные лица. Портреты-окна смутно желтели где-то в воздухе и плыли в объятиях снега. Потом и это исчезло, и только – снег, снег, снег...
Я слышал звук падающего снега.
Я протянул ладонь. На ней на мгновенье застыла ювелирно отточенная шестеренка снежинки. Этого мгновенья мне хватило, чтобы поверить в непредсказуемую силу природы.
В снежинку и в стихию.
Утром пятнами живой крови стыли тюльпаны на клумбах. Их высокие чаши были наполнены снегом. Снег умирал, расплавляя с каждым часом все больше своих шестеренок в недрах упругих бутонов.
Что можно противопоставить снежному забвению?
Только цветение жизни.
Хрустит под ногами
рассыпчатый снег,
Так яблоко
летом надкусывают.
И сквозь шорох шагов
я слышу
твой смех:
Это яблоко – самое вкусное!
1985 г.
ЗАКЛИНАНИЕ
I
Над миром плачут бубенцы
В час заклинанья.
Танцует над больной баксы –
Сеанс камланья.
Далекий родственник Чокан,
Чингиса сын,
Вникал в них больше, чем в Коран,
Но был один.
Записывал в аулах он
И на привале.
На равных он входил в салон –
В английском зале.
Все не дождется Петербург
Его дуэли...
Аул Тезека. Варят курт
В Алтын-Эмеле.
Танцует над больной баксы,
Рыдает бубен.
Святые ни к чему отцы –
Здесь лекарь нужен.
Чокан Чингис-улы, пиши.
Поэты встанут.
И – у надгробия в тиши
Твой труд помянут.
Не знаю – вылечит ли он,
Но знаю точно:
В нем дух поэзии зажжен,
Как факел ночью.
II
Бык мой,
бык мой одноглазый,
где ты, где ты, где ты, где?
Сдвигающий вершины
снежный барс,
где ты, где ты, где ты, где?
Кобылица
рыжая моя,
где ты, где ты, где ты, где?
Олениха пестрая,
как весенний склон горы,
где ты, где ты, где ты, где?
Молю я помощи у вас!
Молю я помощи у вас!
О дух сорокоухий,
поднявшийся из пропасти,
спустившийся в ущелье,
о дух дырявоухий!
Где вы,
где вы,
где вы,
где?
Дивы-девы,
где вы,
где вы?
Марту, Марту,
Албасты,
Мои предки,
мои предки,
где вы,
где вы,
где вы,
где?
О предок мой,
святой Коркыт-ата,
где ты,
где ты,
где ты,
где?
Молю я помощи у вас!
Молю я помощи у вас!
Предстаньте все:
от мала до велика.
Я шепчу, я шепчу,
я вашего не слышу крика.
Молю я помощи у вас!
Молю я помощи у вас!
Есть ли,
Есть ли исцеленье
для страдающей недугом?..
Может,
в жертву принести
черно-белого козла,
может, петуха, корову?
Молю я помощи у вас!
Молю я помощи у вас!
Тайну недуга откройте
и об этом мне скажите,
мои духи, мои духи!
О дух дырявоухий,
о дух сорокоухий,
Спустившийся в ущелье,
поднявшийся из пропасти.
О бык мой,
бык мой одноглазый,
о сдвигающий вершины
снежный барс,
о кобылица
рыжая моя,
о олениха
пестрая,
как весенний склон горы!..
Тьфу!
Тень смерти,
вижу, выползает
из чернеющей норы.
О предок мой,
святой Коркыт-ата,
поддержи меня под руки!
А-а-а-а!
О-о-о-о!
У-у-у-у!
Змеи,
змеи,
вы обвили
кереге
нечастной юрты,
жала выставляя,
змеи...
Сжальтесь,
змеи,
ближе-ближе
подползите,
белогорлую
страдалицу,
заклинаю я,
обвейте.
А-а-а-а!
О-о-о-о!
У-у-у-у!
Пусть
прискачет
вслед за вами
на трехгорбом верблюде
шестиголовая змея.
Айналайн,
айналайн.
Я кружусь
вокруг несчастной
и болезнь
принимаю на себя.
А-а-а-а!
О-о-о-о!
У-у-у-у!
И одна, одна змея
извивается
в моей руке,
изгони,
моя змея,
из больного тела
недуг...
Э-эх-хх!!!
Баксы в бешеном ритме танца бьет обрядовым бичом по телу лежащей больной.
1985 г.
КОЧЕВНИЦА
И кюй печальный поплывет
В день изо дня, из года в год.
I
Мой друг по духу археолог,
Раскопками заколдовал.
Достоинства своих находок
Стихами друг мой описал.
Назвал он цикл “Амазонка”
И подарил при встрече мне:
– Ты не откладывай в сторонку,
Включи в поэму
наравне
С фрагментами
для главной темы,
Не говори,
что вне системы,
Не все вмещается в окне.
II
Владычица былых племен,
Ушедших,
Как песок сквозь пальцы,
Историей твоей пленен,
И в ней тавром твоим клеймен.
Ниже ключиц
В две чаши панцирь.
В них билась жизнь под звон мечей.
Твои –
И воля, и отвага –
Легли стихами на бумагу,
Гравюрами глядят с камней.
Пусть этот миф из той страны,
Где остров Лемнос,
дух гречанки,
Увижу я со стороны –
На помощь скачет половчанка!
И там,
Где ныне древний путь,
Все тянет тетиву к заплечью,
Стрелой предвосхищает встречу,
Да правая мешает грудь.
Ах, как желала молоком
Она налиться в ночь покоя.
В нее впивались детским ртом,
Но лишь во сне, и было сном,
Да, сном все было после боя.
Исповедальный шепот твой
Из-под холма выносит ветер:
– Встань, путник жизни, предо мной,
Владычицу
признай в скелете!
Входи же в склеп, в земное лоно,
Степная здесь почиет дщерь,
Не повидавшая, поверь,
Мужского вражьего полона.
Входи же, коль пробита дверь.
В загробный твой вошел шатер,
Последний камень отодвинул.
И черепа безглазый взор
Во мне раба, быть может, видел.
Стрелу,
Лежавшую с тех пор,
Раб из межребрия не вынул.
Вообразив твои черты,
Твой голый череп поцелую.
И – взвоют надо мной кусты,
Споют
степную
аллилуйю.
III
“...самым тяжелым и вместе с тем выразительным зрелищем был шелковый треугольный платок, закрывавший ее лицо.
Глаза вышли из орбит и отпечатались на этом шелковом платке, которым была покрыта ее голова при захоронении.
Женщина лежала в полусогнутом положении на одной из досок помоста около воина. Детей, которые должны были сопровождать родителей “в загробную жизнь”, в захоронении не было”.
(По следам древних культур)
Как мир трагичен и жесток, не знают гиды.
Она набросила платок, чтобы не выдать,
как давит комьями земля на грудь и плечи,
Застыли в ужасе змея, конь, суслик, кречет.
В объеме, что за кубом куб, она лежала.
И слово, что слетело с губ, земля впитала.
Там, рядом с тем, кто был убит на поле брани,
Рабыня гордая лежит – во имя дани.
Акын о доле ее пел: “За господином –
Завещан предками удел – идти ей с сыном”.
Вчера общины был совет: “Коль умер воин,
Кто с ним делил постель и хлеб, там быть достоин”.
И рядом с воином жена живой ложится.
Она в сей час обречена переселиться
В загробный мир, в подземный склеп живой рабою...
Старейшина, чтоб ты ослеп, будь проклят мною!
Обычаи вершила в срок, все боль-кручина.
Она набросила платок – во имя сына.
Другие с завистью глядят – в иной мир входит.
А мать, она отводит взгляд, мать взгляд отводит.
Не знает – будет мир иной, быть может, будет.
Но – сын пусть выйдет стороной, так сердце судит.
Ему еще не вышел срок – лежать в могиле.
Набросить на лицо платок – ей дух дал силы.
Хоронят мать, а где сынок? – Никто не знает.
Она набросила платок – сын убегает.
Средь ночи с евнухом она сопроводила.
Была для сына суждена – ее могила.
Она набросила платок на свои очи.
Как мир трагичен и жесток, жесток был очень.
А мальчика в ночь уводил с собою евнух.
Легенду эту нам сложил поэт из древних.
В одной рубашке мальчуган белел, плыл степью.
Густой ли окружал туман и – горы цепью.
И – очи матери живой из тьмы могилы.
Все освещали путь ночной, вселяли силы.
И – свет потусторонних глаз был свет для сына.
И – тайну матери для нас хранит долина.
Как этот мир ни был жесток, придаст ей силы –
Что сын ее уже далек, избег могилы.
Впечатаны в ее платок века иные...
Но – сохранил для нас восток глаза живые.
1985 г.
(ВНИМАНИЕ! Выше приведено начало книги)
Скачать полный текст II тома в формате PDF
© Канапьянов Б.М., 2011
Количество просмотров: 5947 |


