Главная / Критика и литературоведение, Литературоведческие работы
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 9 января 2012 года
Поэт Бахытжан Канапьянов
О творчестве известного казахстанского поэта Бахытжана Канапьянова.
Публикуется по книге: Канапьянов Б. Избранное: В 2 т. – Алматы: ИД “Жибек жолы”, 2011. – Т. 1. – 480 с. Тираж 2000 экз.
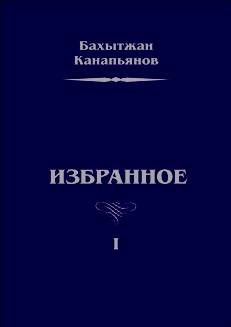
Имя Бахытжана Канапьянова, опубликовавшего около двадцати стихотворных книг от первого сборника «Ночная прохлада» до капитального тома «Над уровнем жизни», автора критических и публицистических статей, немалого числа фильмов, в особом представлении не нуждается. Московский критик В. Максимов написал о поэте исследование «Свет кочевой звезды», казахстанский литературовед В. Бадиков опубликовал книгу «Линия судьбы. Творчество Б. Канапьянова в историко-литературном контексте эпохи», журналист и писатель Людмила Мананникова посвятила ему книгу «Стихи под взглядом неба», Национальная библиотека Республики Казахстан выпустила собрание литературных материалов «На стыке веков», полностью посвященное Б. Канапьянову.
Что же помогло поэту сформироваться, как сложилась его поэзия, бегущая броскости и эпатажности, чем, кажется, переболели все «входящие» в пространство, где вечными, таинственно мерцающими и манящими Вселенными присутствуют Пушкин и Блок, Валери и Магжан, как разрывалась, казалось бы, неизбежная, непреодолимая зависимость от предшественников и современников? Слава Богу, что тем, кому это все интересно, нет смысла отправляться в слишком долгое и дальнее путешествие: ответ мы найдем в книгах Бахытжана Канапьянова.
Противовесом, гасившим острые уколы, опасные изгибы эпохи, сплошь состоящей из невиданных перемен, сотрясаемой «неслыханными мятежами», раз и навсегда стала семья. Основатель «династии» – учитель по профессии и призванию, отец поэта Мусахан Канапьянов, к сожалению, рано ушел из жизни. Однако отцовский авторитет – житейский, нравственный, педагогический – коррозии не подвергся: один сын – поэт и кинематографист, другой – успешен в бизнесе и сочиняет музыку, третий – известный экономист и пишет стихи, а также статьи о Лермонтове и Чехове – любимых классиках отца. Есть еще три сестры... Все дети Мусахана Канапьянова не лишены деловой и творческой жилки.
Свыше десяти лет пребывает Бахытжан Канапьянов во главе издательского дома «Жибек жолы», и непростые обстоятельства, финансовые, производственные и прочие, не помешали осуществить немало оригинальных инициатив: поэтические календари, посвященные Абаю, Ауэзову, Пушкину, «Поэтическая библиотечка» издательского дома, серия книг современных писателей Казахстана, почти полное стихотворное собрание репрессированного Магжана Жумабаева на русском языке...
I
Если попытаться отыскать преобладающую черту личности, а она более всего отразилась в стихах Канапьянова, то это романтическое мироощущение, причем напрочь лишенное самолюбования, мрачной рефлексии, всего того нарочито-гибельного, кокетливо-козырного, чем любили некогда потрясать почтительно внимающую публику мечтательные маргиналы. Шли годы, они складывались в десятилетия, бушевали страшные бури, нынче напрочь отгремевшие, а к стихотворным строкам, написанным недавним металлургом, впоследствии выпускником Высших литературных курсов, прибавлялись все новые и новые, и они вовсе не противоречили ранее написанному, и не устарели.
Если посмотреть по времени (дебютный сборник «Ночная прохлада» – 1977 г.), то увидим, что более 25 лет в современной поэзии существуют стихи Бахытжана Канапьянова. Каждая книга имеет свои особенности. Например, «Горная окраина» (1995 г.): поэтические строки здесь соседствуют с наскальными рисунками Сары-Арки и Мангышлака; они на правах «параллельного текста» вошли в книгу стихотворений. Шедевры безвестных мастеров далекого, даже очень далекого прошлого, казалось, призывали и подталкивали нашего современника к изящной стилизации, к тяжеловесным или, наоборот, ажурным попыткам искусно выстроенного лирического комментария. Б. Канапьянов соблазнительному искушению не поддался, а сохранил в своих стихах именно ему присущую интонацию, не позволив естественному восхищению перед древним искусством перейти в эмоциональный форсаж, в нагнетание страстей по поводу... Так что в стихах – все свое, а примитивные и прекрасные петроглифы – просто-напросто один из главных источников духовного мира автора.
Потому в стихах чашку кофе протягивает женщина с рембрандтовского полотна, автор ждет помилования от героини Рубенса, а запечатлеть на грубом холсте старинную ветряную мельницу, столь характерную для голландского ландшафта, ему помогает доверие Питера Брейгеля, передавшего поэту секреты живописного мастерства.
Однако эта открытость поэта самым возвышенным впечатлениям действительности, цепкая пристальность взора, обращенного к приметам, скажем так, замеченным натурами художественными, тонкими и чуткими, ничуть не мешает присутствовать в строчках деталям совершенно земным, таким, которые, как верно заметил Юрий Олеша, вызывают у нас вкус к жизни. «Мы начинаем чувствовать, что наша жизнь мила нам, что это хорошо»: тихо сидеть в углу кофейни, смотреть, проходя по берегу Патриарших прудов, как свет вечернего солнца отражается в оконных стеклах, закуривать отсыревшую сигарету над туманным оврагом и называть про себя мелькнувшую поодаль цыганку в цветастых одеждах своей «бездомной музой».
Было бы странно, если бы в книге стихов поэта, прошедшего школу Л. Озерова и А. Межирова, не было обязательных, никогда не теряющих свежести и никогда не приедающихся образов тайны, свечи, звезды, дороги, снега, часов, песни, осени...
Все эти краеугольные камни русского поэтического словаря от Державина до Мандельштама, от Кантемира до Тарковского обеспечила подлинностью чистота души автора, потому что читателя нигде не царапнет воспоминание о той или иной чужой строке.
Простота поэтического почерка автора не то чтобы обманчива. Вот только не сразу замечаешь, что в «Горной окраине», например, сильно философское течение:
Цена человеческой жизни
По сути нам вроде ясна.
Но кто подсчитает на тризне,
Какая нам вышла цена?
Этот философский настрой, помимо зоркости собственно поэтического взгляда, вызвал к жизни такие строчки, которые многосмысленны, и задумываешься над ними: «Встает державный шпиль бетонной телебашни», «Не знаю, что, но вновь роднит нас – пасынков былой империи», «Блаженная пыль ворожбы»...
Автору стихотворения «Позабытый мой с детства язык...» лет пятнадцать назад дорого обошлась эта мировоззренческая неуспокоенность, но, слава Богу, времена наступили иные, и нынешний читатель имеет возможность самостоятельно поразмышлять над тем, что тревожило, да, наверное, и по сей день тревожит поэта:
Позабытый мой с детства язык,
Пресловутое двуязычие,
При котором теряю свой лик
И приобретаю двуличие.
Навряд ли читатель согласится с тем, что лирический герой Бахытжана Канапьянова – «пришелец из тяжкого плена», что далекий предок воспринял бы его «недостойной сменой», но то, что автором затронута одна из болевых точек духовной современности, – несомненно.
В одной из статей Лев Озеров приводит слова французского критика Пикона: «Чем тяжелее времена бедствий, тем необходимее прибегать к поэзии». И разъясняет, что поэзия возмещает человеку «недостаточность самой истории» да и саму ограниченность человеческого бытия.
К тому корпусу эпитетов, метафор, ритмов и стихотворных сюжетов, что существовали раньше, автор без какого бы то ни было насилия над своим дарованием присоединяет свои строки. Поэтому читатель найдет в книгах Канапьянова «Владычицу былых племен» и «Когда солнце начнет скрываться за гору...», дневниковые «Я – кочевник с авиабилетом...» и «Себя я чувствую частицей Амстердама...», милую картинку отечественного пейзажа: бело-дымный костер в осенней долине; беркут, поднимаясь ввысь, пронзает тяжелыми крыльями низкое облако.
Если читатель найдет небольшую книгу «Горная окраина», то скорее всего поставит ее на полку – по крайней мере, так поступил Андрей Вознесенский, написавший предисловие к американской книге Канапьянова. Мы тоже поставили ее на полку и время от времени перечитываем:
Горная окраина,
Террасы и дворы,
И некая есть тайна,
Что люди в них добры.
И, словно из грядущего,
Луна из-за хребта
Желает доброй участи
Сейчас и навсегда.
Романтический взгляд на действительность ничему и никому не удалось замутить. Дома в незнакомом городе, небесная смуглянка-луна, мелкая весенняя зелень аборигена пустыни – шершавоствольного саксаула, плотное крепкое тело короля «горной окраины» – апорта, наконец, одухотворенное лицо милой незнакомки, невстреча, которая заставляет ночами просиживать над независимым белым бумажным листом, – все это найдем в стихах Б. Канапьянова.
Для читателя, намеревающегося не просто перелистать книги поэта, а понять сокровенные глубины его мировосприятия, полезно порою присмотреться к первым строчкам стихов. В них открывается многое: «Владею тайной я, она в глазах подростка», «Когда я заплакал однажды во сне...», «В далеком доме плачет мать моя...», «Веселая мысль витала...», «На свои только силы надеюсь...» И, последовав совету одного из учителей Б. Канапьянова – Евгения Винокурова, задержим внимание на понравившейся и чем-то зацепившей строчке, посмотрим «Содержание» и уже сможем составить первоначальное представление о главных ценностях бытия, что дороги автору. Представление о жизни вообще и об отношении к ней поэта. Самое замечательное, что об отношении именно к собственной жизни самого поэта. Жизнь эта, к счастью, не завершена и привлекательна как раз своей незаконченностью, живой неприбранностью, мятежным уютом «поэтического беспорядка».
Поэт с предельной добротой и незащищенностью вручает читателю ключ – лирический и метафорический. Бога ради, продолжай – бодрствуй в бессоннице томительно-магнетического блюза, бреди новонайденной тропинкой, освобожденной теплым мартовским ветерком от долгого снега, к домику молодой брюнетки, чтобы дыхание страсти «сбило пламя огонька...» И как не восторгаться лукавой эротически-целомудренной усмешкой бесшабашного странника, «праздного гуляки» в «Песенке ваганта», откуда и взята «пламенная» строка:
В темноте дойти до цели
Опыт странствий мне помог.
Нам небесные качели
Ниспослал с улыбкой Бог.
Бахытжан Канапьянов – достойный наследник поэзии предшественников и современников. Живые следы великой культуры, отважно принятой в собственные строки, постоянно и просветленно обозначают себя в его стихах. То пригрезится Артур Рембо («Не пьяным кораблем поэта...»), то вспомнится лермонтовское «Из пламя и света рожденное слово»:
И жаждет вымысла бумага,
Как древко жаждет пламя стяга, –
то в качестве жизненного девиза Б. Канапьянов приводит афористический завет Шакарима:
Будь, как облако, что дарит
Легкую в дороге тень,
Исчезая там, за далью,
Если на исходе день...
Он неспроста в качестве звездно-знаковых опор своего мировоззрения рифмует «словарь» и «календарь», пространство и время разумного, наделенного божественным словом бытия. «Ландшафты» – последняя по времени книга стихотворений Б. Канапьянова, из которой мы взяли многие строчки. Это очень цельная, архитектурно точно построенная книга лирики. И если вышесказанного недостаточно, чтобы убедиться в справедливости этих слов, то прочтем напоследок последние три строки из упоминавшейся «Песенки ваганта»:
...Напишу одну из книг.
Вспыхнет в памяти молитва,
Что когда-то пел старик.
На последней странице сборника мы найдем эту незабываемую молитву – у поэтов хорошая память на все хорошее:
Храни Всевышний вас во имя новой встречи,
Храни Всевышний и в грядущие все дни...
Кропотливый исследователь, вооружившись томами Л. Тимофеева и М. Гаспарова, без сомнения, постаравшись, найдет в стихах технические слабости и изъяны, но в «тихой лирике», как ни странно, отточенность, чрезмерная приглаженность строки, алгебраическая выверенность образов иной раз мешает осуществиться прямому, непосредственному общению с читательским сердцем.
Кстати, как не заметить, что в русском стихе Б. Канапьянова – казахский язык поэт знает: казахский эпос, Магжан, Шакарим, Махамбет переведены с оригинала – четко проступает традиционная интонация, можно сказать, кольцовская, даром, что стихи воронежского прасола всем знакомы, как правило, всего-навсего по трем-четырем хрестоматийным вещам:
Перелесок за аулом.
Прячется в траве ручей.
Проезжаю на кауром
Я среди карагачей.
При всей простоте, крупноформатности поэтического почерка, когда строка не щеголяет нарочитой таинственностью, не оберегает себя от прямого и быстрого понимания, в стихах Канапьянова заметна разносторонность тематического выбора. Меньше всего автор склонен работать «циклами», многократно снимать урожай с одной, хорошо получившейся строчки. Под руку так и просится расхожее слово «хроникальность». Вот только хроникальность, репортажность стихов Канапьянова замешана на лирике, пропущенной, как велели классики, сквозь сердце:
Представил я за сотни верст,
Как в южном городе зеленом
Ты дышишь в трубку телефона,
Чтобы от стужи я не мерз.
Но что такое доброта? «И почему ее обожествляют люди», и первый среди обожествляющих – поэт?
За все есть небесная плата.
Край виден земного пути.
В час первый, что после заката,
Свечою мне, друг, посвети.
Мы и не заметили, как легко, как естественно возросло и окрепло в стихах Б. Канапьянова философское качество: поэт переходит к несмущенному мнимой скромностью открытому высказыванию, и оно не тяготит нас надуманностью, назидательной наставительностью. Немного лукавства, приправленного то ли горечью от непонимания, то ли мужской грубоватостью вызова: «Я просто пишу стенограмму. И авторство мне ни к чему». И захочешь – не поверишь после знакомства с сотнями стихотворных канапьяновских строчек. Но рапирной остроты выпад еще не закончен, и наш собеседник не преминет все поставить на свои места – вот что он думает сам о себе: «Но путь мой к небесному храму не повторить никому». И здесь сквозь простые слова проступает «великая магия» поэтической цельности. Не всегда отзывчивость поэта оборачивается безошибочным попаданием «в яблочко», и мы, сочувствуя сердечной боли гражданина, душою тянемся к не менее печальным, трагическим, однако же более свободным эмоционально, более эстетически прочным стихам. Не все «пометки на полях» современности необходимо высекать золотом на мраморе, иные лучше делать быстрым легким карандашом: пусть протекающие годы решат, стоит ли передать написанное в арсенал вечности или все-таки дать возможность милосердному ластику забвения «снять неудачу с пробега».
II
«Мы странно встретились...» – вот такая строчка из старинного романса припомнилась мне, и я вновь вижу Бахытжана Канапьянова на давнем литературном собрании в Москве. Готовилось обсуждение поэтических книжек казахстанских женщин, и мы дружной стайкой бродили по Центральному дому литераторов и дожидались строгого, но справедливого суда москвичей. Собрались столичные критики и поэты, все больше мужчины, среди сочувствующих зрителей я заметила родное лицо. Родное потому, что оно было несомненно степного происхождения. И звали человека, явившего дружелюбие и заинтересованность, Бахытжан Канапьянов.
Не позднее вечера того же дня я имела возможность в полной мере оценить душевную самостоятельность Бахытжана, его беспристрастие, нерастраченную и по сей день любо-знательность высокого образца. Послушать нас, наши стихи призвали казахскую диаспору в Москве. Оказалось, что наши земляки неплохо представлены во ВГИКе и Литературном институте, консерватории имени Чайковского, разного рода технических вузах, но что-то никому и в голову не пришло прийти в Союз писателей и послушать, что же говорят о нас и нашем творчестве «старшие товарищи».
Тот вечер принес мне много хорошего: Евгений Винокуров предложил принять меня немедленно в Союз писателей. Его слова остались без отклика, и мастера это ничуть не изумило. Просто назавтра в редакции «Нового мира» он написал мне рекомендацию, и это без просьбы вмешательство в мою не очень легкую писательскую судьбу до сего дня светит благословенной звездой. Но и присутствие Бахытжана запомнилось и помогало в последующие годы не меньше, и оказалось, что мы встретились не только странно, но и счастливо. Правда, это стало ясно намного позднее.
С той поры прошло-промелькнуло двадцать пять лет...
Я не пропускала ни одной книги Б. Канапьянова, ни одной его статьи, пристрастно читала переводы. Настороженная обстановка постоянного соперничества, собратья, караулившие момент, чтобы или впрямую грубо тебя оскорбить и отвадить от издательства, или со слащавой улыбкой донести, как дурно отозвались о тебе, о твоих стихах. Подогреваемая малой одаренностью зависть к чуть-чуть преуспевшему товарищу – всего этого не только я нахлебалась в свое время сверх меры. Но вот что примечательно – контраст – светлой натуры Бахытжана вся эта накипь не коснулась даже в малейшей степени. К таким «подвигам» он никогда не имел ни вкуса, ни отношения.
Я стремилась не давать воли негативному чувству к разным нападкам, к клевете и наветам. Оправдывала и объясняла себе, рассматривала неблаговидные поступки, держась Божьего завета: «Мне отмщение, и Аз воздам». Старалась судить по стихам и прозе людей с богатым воображением, максимальной верой в свою исключительность и порою полным отсутствием совести. Иначе построил свои взаимоотношения с товарищами по ремеслу Бахытжан. Он – человек, бесспорно, не собиравшийся принижать себя ни в своих, ни в чужих глазах, – раз и навсегда решил, что ему интересны все. Со своими достоинствами и недостатками, праведники и неуемные честолюбцы, несносные зануды и благородные скромники. Многогрешное собрание друзей и недругов – все оно целиком, без сортировки, принималось Бахытжаном, потому что он понимал: насильственно укладывать кого бы то ни было в прокрустово ложе идеала – занятие бесполезное и безнадежное. Идеал – вещь недостижимая, а исправлять чужой характер совершенно ни к чему. И не исправишь, да и самому нравственный ущерб – навязываться с непрошеной помощью.
Своей терпимостью Б. Канапьянов, конечно, раздражал. Помню, как по поводу книги «Аист над Припятью» – стихи Канапьянова о чернобыльской трагедии напечатали в Киеве – некая литературная дама каждому встречному и поперечному возвещала: «Наш пострел везде поспел». Позаспинно, конечно, возвещала... А нашего героя так мало это все волновало. Фальши и притворства не было в независимом и гордом характере Бахытжана, потому злобные укусы столь мало его заботили. Он уже всем ответил своими стихотворениями:
Каких же мы яблок съели,
В какой же зашли тупик?
Я нашла много неподдельных, с глубокой философией в подтексте, строк в книге о чернобыльской трагедии.
Про наших маргинальных зоилов еще наш поэтический прародитель Александр Сергеевич проницательно заметил, и попробуйте им сказанное опровергнуть:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен...
Вот именно!.. Как видно, и Пушкину досаждали...
Крупность души, скорее всего, можно объяснить еще и тем, что чистый лирик по миропониманию, Бахытжан корневой системой сознания чувствовал казахский эпос. Мне также очень близки эпические сказания казахов, вообще тюркского мира, я читала прозаические и стихотворные переводы, и как раз переведенная Канапьяновым поэма «Кыз Жибек» заставила ревностно мечтать о том, чтобы переложить русскими стихами «Козы Корпеш и Баян Сулу». Читала я русскую версию весьма пристрастно и понимала, что есть в ней достоинства, невозможные в работе «варягов», нанятых со стороны.
Недавно случайно, будто прочла чужое незапечатанное письмо, довелось прикоснуться к тому, как автор готовил перевод «Кыз Жибек» к переизданию. Оно вот-вот увидит свет. Исправления, замены, нелегкий поиск нужного слова здесь же на странице, вереницы синонимов, россыпь эпитетов, новые, только что сочиненные строчки – какая добросовестность, вгоняющая в пот наборщиков, какая смелость нужны, чтобы решительно погрузиться в поток, отбушевавший много лет назад, чтобы воскресить свежесть и чистоту поэтического создания.
III
Бесстрашие перед листом белой бумаги – завидная доблесть, оно не покидало Бахытжана. Потому-то в его духовном арсенале столь важен приобретенный с годами жизненный опыт, накопленная из книг и путешествий образованность. Как важно и сохранение молодой непосредственности. Нельзя не заметить, что здравый смысл – опорный камень степного менталитета – в высшей степени присутствует в поведении Бахытжана, что, разумеется, ничуть не мешает ему увлекаться и мечтать.
Для меня до сих пор загадка, как Бахытжан решился «построить» издательский дом «Жибек жолы». Безденежные друзья-товарищи, – а недруги, как только приказала долго жить прежняя издательская система, мгновенно превратились в таковых – конечно, контингент хлопотный и малоблагодарный. Но поскольку президент издательского дома объявил Алма-Ату столицей поэзии, а кроме того, принял решение – непременно выпустить в порядке безвозмездной помощи по книжке каждого своего литературного знакомца, об отступлении от благородного замысла пришлось забыть.
Началось с календаря, в котором оказались представлены почти все русские поэты Казахстана. Канапьянов возвратил многим и многим мироощущение поэта, выдал каждому кредит доверия, а дальше «вольному – воля, спасенному – рай». Как этим кредитом кто распорядился, на то собственный выбор того, кто по доброму почину Бахытжана в этот календарь попал. Так наметилась единственность, неповторимость Канапьянова. Он смог заменить собою, своим издательским домом пришедший в упадок Союз писателей вместе со всеми впавшими на целое десятилетие в бездействие издательствами.
И только слепец может не заметить, что это и есть грамотная культурная политика. Один человек переборол «глухую пору» интеллектуального безвременья, нравственного разброда. Для того чтобы осуществить все проделанное, надо иметь марафонскую выносливость, терпение и справедливость, достойные высшей награды. В непроизвольном соревновании всех, кто действует на поле отечественной культуры, Бахытжан Канапьянов – десятиборец-победитель.
Мне как-то попались на глаза высокомерные, мнимо аристократические рассуждения одного кинорежиссера о том, что, дескать, здесь, в Алма-Ате, «жидкий культурный супчик». Так вот, когда думаешь о Бахытжане, когда убеждаешься, как широк круг его всевозможных интересов, как он открыт и восприимчив к новым впечатлениям, как несравнима с обыкновенными житейскими правилами его неустанная работоспособность на грани окончательного упадка сил, понимаешь, что все эти пустопорожние разговоры о «жидком супчике» – всего-навсего свидетельство собственной беспомощности и нежелания хоть чуть-чуть помочь ближнему. А если взять в расчет еще и деликатность в обращении с прозой и стихами авторов, печатающихся в «Жибек жолы», когда рукопись идет в набор без навязчивого вмешательства редакторского карандаша. Днем с огнем не найти подобного примера, причем не только в наших евразийских палестинах.
Как не заметить, что мир имеет дело со стройной мировоззренческой системой. Бахытжан относится с иронией не только к тем интеллектуалам, что десятилетиями капризно отворачивались друг от друга, соблюдая в многолетней холе существующие, а все больше несуществующие, обиды. Он не прочь, осерчав на кого-нибудь, над собой, разгневанным не в меру, самокритично посмеяться. О том, что у Канапьянова коротка память на зло, ему причиненное, нужно ли говорить. «Рифмы дружат, а люди, увы...» – писал А. Вознесенский. Для Бахытжана «рифмы» любого человека, во-первых, «охранная грамота», во-вторых, льготный талон на право безвозмездного (по сути меценатского) выхода отдельной книги в издательском доме «Жибек жолы». Это не считая того, что голова Канапьянова всегда полна проектами и в каждом проекте непременно задействованы и правые, и виноватые. У миротворца Б. Канапьянова характер литературного героя – легендарного средневекового короля Артура, собиравшего за круглым столом сообщество рыцарей. Общаясь с Б. Канапьяновым, и сам становишься терпимее, больше думаешь о товарищах по писательскому цеху, нравственно подтягиваешься и держишь верную моральную осанку.
Человек корневой памяти, Канапьянов включил в благородное семейное собрание не только родственников – отца, мать, няню, жену, сыновей, сестер и братьев, но и предков, ближних и совсем дальних. Принадлежность к родовой ветви чингисидов ко многому обязывает, как и то, что в обширной родословной имеются и такие великие люди, как Чокан Валиханов. И не романтическая ли тяга к прозрачному Онону, где некогда начиналось родословное древо, довольно-таки рано отправила «кочевника с авиабилетом» в путешествия.
«Во многой мудрости много печали», – констатировал и предупреждал Экклезиаст. А в добровольных скитаниях по белому свету? Он и в путешествиях все тот же – с неизменным спокойствием относится к тому, что замечает, а замечает многое, но исповедует следующую истину: «Мир интересен сам по себе, а не таким, каким мы его заранее вообразили». И в то же время, добравшись до Амстердама, Франкфурта, Загреба или Парижа, до американского сталелитейного Питтсбурга, наконец, поэт совершенно убежден, что это все для того, чтобы попасть в его добросовестные стихи. Культ собственной личности – вполне справедливое состояние души. Иначе поэту незачем было пускаться в путь, а затем возвращаться в родные пенаты. Что же касается библейской «печали», той самой, что от «многой мудрости», пожалуйста, читайте и размышляйте:
Сверял гекзаметром Афины,
Но не нашел, чего искал.
Передо мной одни руины,
На сто столетий опоздал.
Так и видишь старика Гомера, растерянно листающего «Илиаду» со всеми имеющимися там гекзаметрами и не могущего оправдаться перед суровым степняком, что в конце второго тысячелетия рифмует бессмертные Афины с мраморными руинами. Однако в конце концов как не понять, что «великого старца» (Пушкин) можно отпустить на покаяние – наш современник в действительности горюет по поводу собственной «вины без вины» – «На сто столетий опоздал».
В книге о Канапьянове считаю нелишним признаться вот в чем. В последние годы отношение к самому заметному, но и к самому непонятому, почти непрочитанному Льву Николаевичу Гумилеву для меня критерий и мерило интеллектуальной и нравственной состоятельности человека. Несколько встреч с Бахытжаном особенно были богаты на разговоры об авторе «Древней Руси и Великой степи». Канапьянов всерьез интересовался темой евразийства как потомок Чингисхана, как строитель духовной культуры, как персона, принадлежащая к сердцевине Центральной Азии. Я – поклонник и ревностный почитатель «последнего евразийца» Гумилева – очень пристрастна ко всем, кто хотя бы чуть-чуть скептически воспринимает наследие моего гениального кумира. И вот Бахытжана мне упрекнуть не в чем. Он, исколесивший полмира, всегда с комом в горле от самой кратковременной разлуки возвращается в евразийские пределы как раз потому, что кровно соединен с землей, каждая персть которой – сама история. Моему евразийскому земляку, по вещим словам Александра Блока, «внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». Но остается Канапьянов при своей вере, выкованной, выплавленной в тигле мировой поэзии, и самой массивной частью этой веры обозначился Пушкин.
При всем при том Бахытжан очень чуток, не закрыт – нечастое качество для стихотворца, прямо скажем, – ко всем поэтическим явлениям, будь то сонет Бодлера или эпиграмма, сочиненная за гостеприимной чашкой чая в его кабинете однокашником по Высшим литературным курсам. «Через головы поэтов и правительств» Канапьянов, подобно пчеле-труженице, собирает драгоценный мед поэтического слова и укладывает в плотный воск опорных символов.
Причем здесь бык вне Бога наших мыслей,
Причем здесь Бог, увы, он ни при чем.
Я колесницу времени сквозь числа
Вновь завожу магическим ключом, –
пишет поэт в стихотворении, названным самолично изобретенным словом «Компьютодор». Да, поистине так оно и есть – Канапьянов всегда в сказочной «колеснице времени», и всегда при нем – «магический ключ». К воображению и вдохновению.
IV
Поговорим об искренности нашего поэта. О совести творца, о нравственных ориентирах сочинителя. Канапьянов становился на литературную стезю, когда соблазны скороспелого шумного признания просто-таки бушевали со всех сторон. Достаточно было осознать, приглядеться к генеральным приметам моды, чуть-чуть ради приличия отойти в сторону, а потом петь «во все воронье горло», и, возможно, вожди стадионного «мейнстрима» тотчас бы приняли в свою компанию, а там – все блага, что положены вошедшему в «стаю»: тиражи, снисходительное поощрение старших товарищей, доброжелательные статьи критиков той же «группы крови», льготные путешествия в дальние края и главное – чувство самодостаточности, наконец-то выбился из гонимых, непризнанных, замалчиваемых. Ему повезло, конечно, больше многих, но...
Стихи Бахытжана значимы потому, что против собственной совести поэт никогда не поступал. Нет строк с моральным изъяном. Искренность автора очевидна. С ним можно спорить, иной раз ожесточенно, до ярости, можно не принимать, не соглашаться, более того, выдвигать собственные варианты, посмеиваться над заблуждениями или корить за бесспорное отставание от моды, но не верить нельзя. Контрасты, противоречивость, порою раздражающая читателя категоричность суждений – все это есть. Иной раз Канапьянов весьма заметно противоречит себе самому, себя же, любимого, и опровергает. Но не по чужой, а по собственной воле, по своему разумению и хотению. «Не продается вдохновенье...» – этот пушкинский нравственный императив та самая муза, что, по словам Ахматовой, диктовала Дату страницы «Ада», вручила Канапьянову одновременно с лирическим даром.
Вот почему, читая Бахытжана, мало того, что чувствуешь – это стихи твоего современника; понимаешь, что ты к ним еще вернешься, поскольку они рассчитаны на вырост. Что-то в них есть такое, не доступное полной расшифровке, зернышко тайны, и все это имеет полное право на дальнейшую жизнь, за пределами сиюминутного прочтения. Прибавим также, что и прошлое не менее интересно в стихах Канапьянова, и в эпохе, в которой, казалось, не осталось ничего неразгаданного, вся она вроде бы на ладони, изучена и исчерпана, протоптана вдоль и поперек, внезапно открывается нечто, что и по сей день живет и набирает драгоценный свет истины. Возвращает милый сердцу звук, без которого вся жизнь – твоя жизнь, особенная, неповторимая, – пыльный листок, что оторвался от ветки родимой и никому не нужен, даже тебе самому:
Спой мне песню из времен застоя,
Из времен застоя песню спой.
Струны я на время то настрою,
Подпоет мне кто-то из пивной.
Говорят, что мир без песен тесен.
Подтверждаю – правду говорят.
Спой мне, друг, одну из наших песен,
Излечи, как двадцать лет назад.
Как точно пришлась к месту пивная. Давний приют свободомыслия, равноценный бане, именно там развязывались языки. Банный веник да пивная кружка – вот опорные инструменты откровенности, мужской свободы и неподчинения существующему миропорядку. Одно слово в его строке (поэт – не любитель обстоятельно разворачивать талантливую подробность), а как много-много сказано. Оно, это слово, одновременно высекло и искру, и слезу. Вот что совершает бесхитростная интонация, родниковая прозрачность функциональной речи. Для такого изначально раскованного обращения с живой жизнью одного таланта мало, хорошего знания русского языка мало. Свободного доступа к печатному станку тоже недостаточно. Без всего этого нечего и силы душевные тратить, но объяснение феномена Канапьянова вот в чем. Школа. Школа с большой буквы – вот что действительность дружески, доверчиво подарила Бахытжану. Он – выученик поколения фронтовиков, далеко отошедших от абстрактной возвышенности и риторической холодности. Это люди неподдельной судьбы, трагического опыта, добытого мужественно и некабинетно.
Кто его школил? Откройте любую поэтическую хрестоматию Великой Отечественной войны – там поименно перечислены наставники Канапьянова. Назовем же имя главного Учителя – Александр Межиров. Мне посчастливилось дважды – один раз по телефону – разговаривать с Александром Петровичем. Эти кратковременные беседы произвели сильное неизгладимое впечатление. Межиров явился мне человеком, полностью владевшим сокровенным знанием о Поэзии как части природы. После того, что он сказал, короста пафосности и примерки чужих одежд отлетала, как зерновая шелуха под ветром. А Бахытжану посчастливилось два года быть межировским семинаристом. Есть чему позавидовать, в том числе и тому, что в эпигоны и Межирова, и других поэтов фронтового поколения Канапьянов записываться не стал. Мы числим его по иному ведомству. Вот послушайте:
В саду незримая певунья
Иль в море шлейф от ветерка...
Поэзия –
Моя колдунья –
Быть может мифом полнолунья,
Быть может притчей моряка...
Невозможно не почувствовать пушкинский ветерок, легчайший благоуханный зефир в негромкой человечности, в бесхитростности незаемного изящества, когда на своем месте миф и притча, моряк и полнолунье. Потому-то истинную радость доставила мне совместная работа над «Пушкинским календарем». Составить календарь к 200-летию великого поэта Бахытжан доверил мне. Я проштудировала академический десятитомник и готова была писать «Тридцать девятое мартобря», лишь бы уместить побольше материала в небольшой перекидной календарь. Начались долгие битвы под знаком отбора и отсева. Что оставить в календаре, чем пожертвовать, как композиционно разместить по календарным числам, какой рисунок к какому отрывку присовокупить?.. Какими же словами выразить мою благодарность за то, что Бахытжан дал мне возможность – как я определила – выпустить мою лучшую книгу стихов? Теперь, спустя годы, перелистываю страницы «Пушкинского календаря» и убеждаюсь, что благодаря бескомпромиссности, твердости Канапьянова все пошло в дело, почти ничего не пропало. Давным-давно степной здравый смысл подсказал мне следующие строки:
Все ищут в миру красоты и прокорма,
За это на этой земле послужи.
Я получила, если говорить о «Пушкинском календаре», вдоволь и сполна «красоты и прокорма». И кто бы еще, кроме сурового Бахытжана, по своей воле принял на себя нравственные и финансовые затраты на издание, получившее в Москве уверенное признание! А с моей стороны сколько получил глава издательского дома «Жибек жолы» несправедливых слов и слез. И вот вам его объективность, неподвластность негативным мгновениям и стопроцентная незлопамятность. Казалось бы, расположение ко мне должно было подвергнуться коррозии и прочим искажениям, умалиться, а то и вообще пропасть. Плохо же мы думаем о Бахытжане – он не изменил своего отношения ни ко мне, ни к другим, провинившимся перед ним куда более крупно по сравнению со мной, и его вечная, почти что буддийская терпимость к чужим причудам, изменам, даже предательствам осталась непоколебимой.
V
О Бахытжане Канапьянове написано много. Преобладает положительно-комплиментарная тональность. Поневоле и с чувством, что сказано совершенно справедливо, вспоминаешь Окуджаву: «Давайте говорить, друг другом восхищаться, высокопарных слов не стоит опасаться...» Понятно, почему: можно роковым образом не успеть. У Бахытжана глаз поставлен на все лучшее в человеке и в жизни, и критики это тотчас замечают, и доброта поэта в лучшем смысле этого слова заразительна. И авторы многочисленных отзывов о Канапьянове столь же терпимы, столь же чутки к хорошему. А такого хорошего в стихах Бахытжана много.
Я уже писала и о поэте, и о его критиках. Просматривая вышедшую в Москве в редакционно-издательском центре «Пилигрим» книгу Виктора Максимова «Свет кочевой звезды» (2000 г.) о творчестве Бахытжана Канапьянова, поначалу задумываешься, зачем автор прибегает к столь обширному цитированию. Прочитав, к примеру, строчку «Я родом из мира, я верю, что он будет вечен», литературовед стремится сделать наглядными некоторые закономерности движения цивилизации, здесь естественно возникают и пространственные параллели, и понятие «ноосферы», вовсе нелишнее в теоретических построениях по поводу конкретных стихов. Не каждый согласится, чтобы гармонию его вольного вдохновения проверяли алгеброй пристального литературоведческого анализа, причем вовсе не потому, что так действовал пушкинский Сальери, а потому, что живут начерно, пишут расслабленно, тащат на бумагу все, что попадает в поле зрения.
Для В. Максимова чрезвычайно важно восстановить в современном читателе угасающую способность сопоставлять, слышать в музыке и метафорике нынешнего стихосложения явственно проступающий «вековой прототип». Сплав высокой традиции с усложненной техникой письма и способом художественного мышления, выработанных XX веком, – вот что в «Свете кочевой звезды» названо литературными достижениями Канапьянова. Это справедливо и интересно, когда твоего современника проверяют на фоне мирового контекста, и чувствуешь – выдерживает.
В 2002 году Виктор Бадиков, доктор филологических наук, написал книжку о Б. Канапьянове «Линия судьбы». Это учебное пособие к спецкурсу «Современный литературный процесс Казахстана». Это уже совсем иной контекст, если сравнивать с книгой В. Максимова. Интересно, что стихотворения Канапьянова выдерживают два подхода, две непохожие методики исследования.
Не менее мне дорог и взгляд другого критика и литературоведа. Людмила Мананникова назвала свою книгу о Б. Канапьянове «Стихи под взглядом неба» (2002 г.). Она тоже чувствует, что образы поэта пронизывают Вселенную, что без этого поэтического слова мир бы обеднел «в отсеке сегодняшнего дня» и привязанности к одному месту. Мананникова пишет: «Хорошо ответы на вечные вопросы искать в дороге... в пути скрывается нечто иррациональное. Здесь Поэт, как ему кажется, близок к разгадке жизни. И неважно, едет он в автомобиле, поездом по степи, летит в самолете. Дорога для Поэта – повод остановиться и оглянуться». Строчка за строчкой цитирует критик стихотворения Б. Канапьянова. Уже однажды пропущенные через душу образы пропускаются Мананниковой еще раз уже через свою душу и навевают неотвязную мысль перейти от цитат к полным стихам и перечитать, может быть, известное, но до конца ли понятое. Этот метод: памятуя о космосе, о предшественниках и современниках, об общечеловеческих истинах, более всего ценить то, что переходит от одной души к другой, – мне симпатичнее полной алгебры. Книгу Л. Мананниковой можно назвать лирикой о лирике – это созвучно с тем, что я чувствую, читая Канапьянова.
И кроме всего прочего, я воспринимаю Бахытжана для себя тем, кем были для Чайковского издатель Юргенсон или Надежда Филаретовна фон-Мекк. Прожив большую часть своей жизни при советской действительности, я с некоторым подозрением читала о благотворительности, меценатстве, жертвенности. Как прекрасно, что новая эпоха позволила Б. Канапьянову стать меценатом аполлонического племени. Помню его великолепное признание на открытии дома «Жибек жолы»: «В конечном счете я открыл издательство, чтобы печатать своих друзей и себя. Осточертело зависеть от людей, завистливых и полуграмотных, которым на ухо – если говорить о чутье к поэтическому слову – наступили все медведи с самого раннего утра в лесу. Опротивела чужая самоуверенность, что они лучше разбираются в твоей душе, чем ты сам. Что им пушкинский завет: «Ты сам – свой высший суд»?
У каждого из нас довольно незаживающих, долгие годы сочащихся кровью ран, нанесенных самоуверенными редакторами. И наша память на обиды прежних лет не ослабевает, пусть даже позарастали мохом-травою все те дорожки, что когда-то вели в то или иное издательство или единственный литературный журнал, в котором поэтов умерщвляли злодейски испытанным присловьем: «Замените подборку!» Да, мы не забыли, а вот Бахытжану наша непримиримость не пример. Он, я уже говорила, как раз обиды не очень-то и помнит, по поводу обидчиков не злословит, врагов не клянет, собеседника своего разного рода проклятьями не терзает. Широта души и позволяет Канапьянову оставаться предельно и призывно последовательным в своей незлобивости и объективности.
Как-то Канапьянов признался, что самая чистая, ничем не запятнанная надежда – приход Нового года. Накануне годовой смены мальчишкой он весь день пребывал в нетерпении, какой подарок на рассвете окажется под подушкой. Не говорит он впрямую о тепле, о душевном уюте родного очага, о том, как его любили мать и отец, но нам уже все понятно, как понятно и то, что, только обладая такой защищенностью, человек получает возможность, свободные силы искать свое особенное счастье за пределами материнской обители. Его влечет «Фонарь надежды», его притягивают ветер, вольная воля. И в маятниковых ветровых порывах поэт уже чувствует отлаженный механизм бытия.
Давным-давно замечено, что истинная лирика всегда печальна. «Страшит необъяснимая печаль», как сказано у Канапьянова. Обостренность его зрения, пронзительность печальных слов, наверное, возникают потому, что молекулы мира, мимолетные впечатления, звенья бытия, попавшие в стихи, – и они посейчас «Золотом вечным горят в песнопенье» (Фет) – это одновременно приметы необыкновенно яркой, многоцветной действительности и колокольно-прощальный звон по жизни. И чем острее, чем приметливее взгляд поэта, тем сильнее горькое предчувствие расставания с этим прекрасным миром. «Дни прошлого – легки», – успокаивает себя поэт. О, если бы это соответствовало истине, если бы «позднее прозренье» действительно отличалось невозмутимостью, разве расслышал бы поэт в младенческом плаче ребенка невысказанную «тайную тоску»?
Не зная племени, не зная рода,
Основ не зная языка,
Ребенок плачет, нет ребенку года,
А в плаче тайная тоска.
Он высказать пока еще не может –
Обиду или просьбу, не поймешь,
И это все он в будущее вложит
И рассечет на правду и на ложь.
По существу ведь так оно и есть в действительности, в человеческом многофигурном общении. Более того, в каждодневном борении с языком, со своей и чужой речью – сражение за точность нравственного расклада. За взвешенную оценку, что есть правда и что есть ложь.
Для лирического героя (былинки и песчинки во Вселенной) стихов Б. Канапьянова в конце концов настает момент, когда он обращает свой взор к небу. Читатель поражен, как по-разному Бахытжан относится к поискам смысла жизни среди планет, ближних и дальних. То совет предстать перед звездами один на один принадлежит «жизнерадостному кретину», то подлинным алмазом светится удивительная строка, в которой звездное небо названо «Божественной перфокартой», да еще выданной «по логике Декарта». Но сколько ни зови на помощь математику, даже и высшую, все равно выпрямить «ломаную линию судьбы» под силу только поэзии, причем поэзии серьезной, бесстрашно обращающейся к вечным вопросам.
VI
Писатель не разделяет для себя труд на свой и чужой, когда берется за перевод или критику, или за прозу о чужой жизни. Равно высокое чувство ответственности испытывает он перед Литературой. Пора сказать несколько слов о переводах, которым Б. Канапьянов отдал не менее полжизни. Порой это были значительные удачи. Найдем и изысканную инструментовку, искусную рифмовку, изощренный образный строй. Максимальна версификаторская оснастка, например, в вольном переложении одного из произведений рафинированного «парнасца» Поля Валери:
Как будто жертвуя небытию под небом,
Плеснул я в океан из амфоры вина.
Невольный взмах руки, что разуму неведом,
Почти не отразив, втянула глубина.
Быть может, магия чернеющего дна,
Хмельную кровь перемешав с небесным хлебом,
Повелевает мной, и там, быть может, следом
Над волнами встает души моей волна.
Мгновение, и всплеск, и розовая дымка
На гребне волн, мелькнув, ныряет невидимкой
В привычную прозрачность пробужденных вод,
И боги там, на дне, скрепив морские узы,
Стада вечерних туч выводят в небосвод –
Забили волны шторма в колокол медузы.
Что-то переводилось с незнакомых языков, может быть, с помощью подстрочника: Поль Валери, Н. Хикмет, П. Оресик, Я. Юрканс.., но Канапьянову хотелось отдать долг двуязычию, данному Богом. Более всего он перевел с казахского. Это и Махамбет, и Абай, и Шакарим, и Магжан, и Джамбул, и Кенен...
Мечта каждого, кто держит в руках перо, непременно соприкоснуться с эпосом, особенно переложить его современными стихами или даже прозой. Творческая ревность к тексту оригинала неизбежна, попасть в соперники неведомого автора, отдаленного от тебя, пишущего, столетиями, и страшно, и заманчиво. А если ты к тому же владеешь языком подлинника и тебе доступны тайны старинного слога и смысла, ведь можно почувствовать себя в положении древнерусского князя, привязанного одновременно к двум древесным вершинам. Перевод казахской эпической поэмы о «Шелковой девушке» создавался Б. Канапьяновым в свете традиций классической русской школы стихотворного перевода. В прежние годы за переложение эпоса – казахского, киргизского, калмыцкого, за переводы колоссальных шедевров Востока: «Шахнамэ» Фирдоуси, или «Пятикнижия» Низами, или «Витязя в тигровой шкуре» Руставели – брались первоклассные мастера: Тарковский, Липкин, Заболоцкий. Будем также иметь в виду, что переводческая работа Пастернака, Лозинского – если только о крупноразмерных произведениях говорить – также не была тайной за семью печатями.
Бахытжан, следуя торной классической тропой, не пошел по пути, на котором столько переводчиков, именно знающих язык подлинника, потерпело решительную неудачу. Он отказался от буквального воспроизведения оригинала, позволил себе куда большую свободу в обращении с фактическими строчками. И правильно поступил. А разобраться – за перевод эпоса поэт принялся, когда ему только-только исполнилось тридцать лет. Совсем еще молодой человек!..
Тулегену между тем двенадцать лет.
Тайны взрослые подростку застят свет.
Задумываясь над удачами перевода, понимаешь, что благодарность Бахытжана за прочный фундамент, полученный в наследство от предшественников, состояла в душевной способности тридцатилетнего стать двенадцатилетним. Эта необыкновенная свежесть взгляда, только поэту доступное возвращение в детство просветили насквозь весь перевод.
Даже локальные приметы вроде казахского слова «Алкисса» вместо русского «Присказка» оказались весьма к месту, поскольку точно передают процесс приобщения того же самого подростка к иной языковой стихии. Да, это перевод на русский язык, но перевод-то с казахского и с тонкой продуманностью, выдающей, что автор действовал не по шаблону: слева – страница оригинала, справа – белый лист, а меж ними – казахско-русский словарь. Переводчик придал своей работе родной акцент, что, без сомнения, приближает читателя к старинной истории, бережно и любовно хранимой в народной памяти. Даже правило «жы-шы пиши через ы», верное для казахского оригинала, уцелело в именах эпоса в русском переводе. Не все переводится, и это присутствует очень тонко.
Я стала читать перевод Канапьянова, чтобы подобрать несколько фрагментов, и не заметила, как дочитала до конца, почти позабыв о своей первоначальной цели. Прочла от строки до строки весь текст, все сто страниц. Имей я в предмете «набрать поганок», т. е. нацелиться на поиск промахов, шероховатостей, частных неудач переводчика, пожалуй, кое-что и накопилось бы. Однако я ходила не «по поганки». При чтении бросалось в глаза и запоминалось иное. К примеру, роскошный парад одиннадцати красавиц, и Кыз Жибек среди них еще нет. Бровки прелестниц, как «серпики лун», сами они, словно белокрылые лебеди, и сокровенным сиянием их глаз озарен весь степной мир:
Она сродни по красоте
Шолпан – предутренней звезде...
Чью осчастливила семью?
Возможно ли в земном краю
Такой красавице родиться?
Быть может, родилась в раю!
А ведь это всего-навсего вторая красавица!.. И восторженные описания самих прекрасных девушек, и поражающих изысканным убранством нарядов идут по нарастающей. Казалось бы, куда выше – Шолпан? Очарование восточной поэзии – в неиссякаемости подробностей; сухая информативность ей чужда, вся многоцветная пестрота восточного базара постепенно, эскортируемая звонкими рифмами, размещается в пространстве эпической поэмы. Перевод Канапьянова позволяет представить, как на протяжении веков жизни этого эпоса радовались процитированным и подобным строчкам казахские женщины – безымянный автор не пожалел самых ярких красок, и отныне каждая могла любоваться и гордиться своей неотразимой красотой. Да и казахским мужчинам в пользу – поэтическое восхищение очарованием женщины, волшебным умением безвестного поэта преклонить колени и широко раскрыть глаза перед явлением Прекрасной Дамы. Что вера в душевную тонкость предков давно присутствует в поэтическом сознании Бахытжана, как и стремление почувствовать дальнюю-дальнюю эпоху в свете любви, можно понять из следующих строк:
Когда солнце начнет скрываться за гору,
когда лягут от елей на длину копья тени
и, как черные перья, падут на тропу,
тогда приходи к дереву,
там
ствол выщерблен молнией.
Я ждать тебя буду,
моя белая горлинка.
Может, так назначали встречу влюбленные
В племени саков в былом».
(«Когда солнце начнет скрываться за гору...»)
Но вернемся к эпосу. Действие поэмы приближается к главной красавице – самой Жибек. А перед нею читатель знакомится с ее матерью. И что же?! Она столь обаятельна и обольстительна, что решительно затмевает предшествующую вереницу, о чем автор, пребывающий в неустанном восхищении, заявляет напрямую:
...несмотря на возраст свой,
Затмит умом и красотой
Всех красавиц предыдущих...
Светилась вся она и лбом,
И золоченым сапожком.
И это – мать Жибек была.
Все эти описания нисколько не принизили, ничуть не умалили ничьей красоты. Ни одна краска на авторской палитре ни разу не поблекла, не потускнела, а, наоборот, каждый раз набирала такой светоносной силы, такой ослепительной яркости, что глазам и, разумеется, сердцу становится больно:
Четырнадцать всего ей лет,
Заморский на руке браслет.
И три подружки рядом с нею
Для тайных девичьих бесед.
И пуговки на рукавах
Все в переливчатых камнях.
Алмаз бухарский в каблучках
Не виден в собственных лучах.
Сережкам, что в ушах видны,
Достойной в мире нет цены.
Про тяжесть их нам не узнать –
Любуемся со стороны.
В шелках узорных стан ее
Стройней, чем тонкое копье,
Как у крылатой кобылицы,
Осанка гордая ее.
Поневоле позавидуешь неравнодушному, а точнее – любовно-приметливому взору старинного поэта, нашедшего в потомках достойного сотоварища по ремеслу и мировосприятию.
Прошу поверить мне на слою – я знала эту эпическую поэму задолго до знакомства с переводом Канапьянова, знала тайны и секреты этой области словесного искусства, постигла стихотворные приемы, знакома с работами великих русских переводчиков – они уже названы мною. Открыть что-либо новое почти невозможно, и обновление возможно лишь при помощи интуиции и таланта. Они помогают сделать верный выбор. Так вот в переводе Бахытжана точный отбор решает все; безошибочно распределены свет и тени...
Попутное замечание – Канапьянов как-то написал: «Найти бы время [«Одиссею»] перечитать когда-нибудь». Знаменательная откровенная строка. Пастернак признавался, что вместо заказанной статьи об Александре Блоке он написал русский рождественский пейзаж, «как у голландцев». Так и здесь: вместо того чтобы перечитать «Одиссею», он перевел «Кыз Жибек».
Свобода переводчика, эквивалентная дерзости, сказалась в портрете Кыз Жибек, точнее – в представлении главной красавицы казахского эпоса современному читателю. О внешности героини поэмы, конечно, говорится в тексте, как же без внешности-то, и в помощь себе эпический портретист призвал черты неземные, приметы запредельные. Но сначала мы не увидим, а именно услышим Кыз Жибек, нас поразит ее бесстрашный смех. Она весьма остроумна, а при ее несомненной гордости это соединение просто-таки убийственно. Разит наповал... Как дерзко, как хлестко она отчитала самоуверенного акына Каршыгу, да еще при Тулегене. Еще бы – разве можно простить?! – акын осмелился назвать ее «сестрою». «Нашелся братец!» – был ответ. После такой отповеди хоть бегом беги из аула, оставив домбру и надежду на то, что люди не станут отныне снисходительной усмешкой встречать твое появление. А острая на язык Кыз Жибек ядовито напоминает, что тот же самый Каршыга готов был продать красавицу за породистых коней.
Среди удач переводчика такой эпизод: едет по степной дороге колесница, и вот из-за приоткрытой нежной женской ручкой занавески выглядывает Кыз Жибек. Появление ярчайшего светила не столь изумило бы Тулегена, как сверкнувшее ослепительной красотой лицо незнакомки. Чтобы поразить джигита в самое сердце, ей не понадобилось «дышать духами и туманами». Конечно, такая кинематографическая картинность, сказать откровенно, – технический прием. Но он – этот поворот от внешней характерности к психологическому портрету – осуществлен весьма умело, хватка профессионала чувствуется в полной мере. «Завидовать будем!» – как сказал вождь с грузинским акцентом, правда, по другому поводу. Психологический портрет – не достояние народного эпоса, где почти все функционально и здравомысленно. Переводчик, следуя оригиналу, все-таки ухитрился композицией и подбором деталей внести в перевод достижения русского XIX века.
Владение ремеслом не ограничилось применением приемов. Текст поэмы пронизан крепким здравым смыслом, а для переводчика этот самый здравый смысл – дополнительная трудность в сложнейшей работе преображения – «из тени в свет перелетая», где тень – оригинал на пути к другому языку, а свет – завершенное поэтическое переложение. Читатель же в переводе Бахытжана освобожден от необходимости сочетать прекрасные фрагменты, нет, ему предлагается логически безупречное построение.
Кстати, расхожий четырехстопный простонародный (частушечный) хорей – им-то обычно злоупотребляют переводчики, в особенности, те, кто пользуется исключительно подстрочниками и приложенными ритмическими схемами, а словарик разного рода местных речений прикладывают к переводу не столько для читателя, сколько для себя, – для Канапьянова вовсе не догматический размер. И когда в плавном и размеренном течении четырехстопных ямбических строк внезапно загорается звездным светом пятистопный хорей, это напоминает громокипящую увертюру, что в цирке, скажем, предваряет нечто знаменательное и особенно яркое.
И все же оставим пока переводчика и вернемся непосредственно к Кыз Жибек. Она завершает вереницу красавиц, идет, если так можно выразиться, двенадцатым номером. Надо ли напоминать, что двенадцать – это не только число зодиакальных знаков, но и цикл восточного календаря, так называемый «мушель». Так вот двенадцатая красавица представлена совершенно по-другому. Отбор определений иной, чем раньше. Преобладают земные качества, берутся сравнения из близлежащего мира, из того самого, что повседневно окружает человека. Космические светила: солнце, луна, звезды – «отдыхают», отставлены в сторону:
...Схожи груди Кыз Жибек
С коленной чашечкой верблюда...
И белизна ее лица...
Как в Наурыз пушистый снег,
Что виден из окна дворца...
И вспыхивает вновь и вновь,
Как белой куропатки кровь,
Румянец на ее щеках...
Такие сравнения помогают понять, что Бахытжан Канапьянов самовольно и к радости читателей произвел себя в подмастерья народа-языкотворца. Этот перевод – свидетельство неиссякаемого совершенствования человеческой речи, оптимистическое приглашение в открытое пространство поэтического взгляда на действительность. Просветитель и избранник Музы не посрамил удачи судьбы, выдавшей ему такой аванс доверия – переложить на второй родной язык древнее сказание.
VII
Жизненный опыт для автора лирических стихов не столь важен, как для эпического поэта или драматурга. Новое знание о человеческой душе лирик получает, словно Спящая Красавица, в колыбели. А дальше все зависит от того, как и сколько жизнетворной речевой влаги набирается в колодце индивидуального словаря. Лирические стихи – живое, меняющееся, волшебное, поскольку не только для автора, но и для читателя, зеркало особенной души. И есть смысл прислушаться к психологам, – кстати, так полагал и Лев Толстой, – что все впечатления человек получает до пяти лет, а остальные годы – время бесконечных и беспрерывных потерь.
Путь действующего лирика ознаменован известными словами Пушкина: «Лета к суровой прозе клонят...» Невыдуманный, простой и ясный жизненный опыт, разумеется, никто со счетов сбрасывать не собирается. Но вот в чем загвоздка... Приобретение знания о действительности, той самой «многой мудрости, в которой много печали», далеко не книжной, к слову, непременно оборачивается стремлением выйти в наставники, желанием поучать, предостерегать, соучаствовать в выборе кем-либо житейского маршрута. И «глуповатость», о которой опять-таки писал Пушкин («Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата...», иначе говоря, должна быть возвышенно наивной, без заранее рассчитанной и примененной заданности), проникшая в лирические стихи, конечно, оставляет впечатление притворства. Пожалуй, только Александру Сергеевичу и было в полной мере ведомо, как ненавязчиво обременить нас своим жизненным опытом.
Малосимпатичная ржавчина непрошеного менторства, к счастью, миновала Бахытжана. Он всегда настроен диалогически, если можно так выразиться, и его собеседник – эта категория столь многочисленна, что тягаться с Канапьяновым – занятие безнадежное, – рассматривается им как равный. В кабинете президента издательского дома «Жибек жолы» многолюднее, чем в Союзе писателей в прежнюю эпоху. Заинтересованность, внимательность к тому, что совершается, что происходит вокруг него, постепенно вели его стихи к «повести», вернее – к повествовательности. Путь закономерный, к тому же еще и не принесший ущерба лирической почве, на которой произрастали стихи. И поскольку в душе Канапьянова неизменно главенствовало удивление как первостепенная черта характера, то очевидная нерастраченность сердечного расположения ко многим и многим, редкостное умение принимать мир и его насельников такими, какими они есть, полное отсутствие злобы и зависти (заветы старца Зосимы из Оптиной пустыни, можно сказать, в действии), неимоверная загруженность работой, когда на прямые занятия литературным творчеством остается всего-ничего, самая малость, неиссякающая вереница разнообразных (все больше писательских) проектов – все это совместно соединенное и есть явление по имени Бахытжан Мусаханович Канапьянов. Хорошо, что такая «напряженка» – а по-иному жить теперь и не получится – не преградила путь потоку стихов. Они по-прежнему возникают как записи в лирическом дневнике поэта.
А теперь – о главном. Как правило, ни одному человеку не дано с первого раза обрести себя в профессии, почувствовать себя на правильной дороге. Метания, искания, и как много впоследствии отбрасывается, приходит горькое понимание, что годы и годы оказались почти напрасно растраченными. А у Бахытжана все пошло в дело. Всему найден смысл, назначение всего испытанного обрело живую жизнь в последовавшей каждодневности. Энергичные занятия спортом, погружение в тайны металлургических процессов, еще немного – и средневековый секрет дамасской стали современной формулой расшифровала бы рука Бахытжана, наконец, кинематограф, чуть было не заставивший Канапьянова поменять письменный стол на монтажный, кинематограф с его сюжетной муштрой и дисциплиной изумленного взгляда – все, все крупно пригодилось.
А к тому же судьба позволила вдоволь постранствовать по свету. Способность удивляться не покидала путешественника и за пределами Отечества, хотя его благословенный кизячно-саксаульный дым, конечно же, так и остался сладок и приятен. Занятия кино помогли желанию во что бы то ни стало оставить при себе, даже расставшись, городские пейзажи Антверпена и Франкфурта, Парижа и Нью-Йорка. Для Бахытжана каждый раз тот или иной город воспринимался особенным миром, как и поэты, что становились его гостями в Алма-Ате, – Вознесенский, Ахмадулина, Кенжеев, Лотяну, Оресик, Ян Август...
И все же толерантность – воспользуемся вполне уместным здесь модным словечком – Канапьянова, его нейтралитет, весьма далекий от холодной сосредоточенности на своих переживаниях какого-нибудь отшельника, действенная благожелательность, не мелкая монетка попутной, ничего не меняющей в мире милостыни, а решительный поступок серьезного меценатского толка, порою возвращающий к творческой жизни прозаика, поэта, отечественного философа, – более всего и выразилась за десятилетие присутствия в стране издательского дома «Жибек жолы».
Все шло вот по какому нравственному начертанию: «И естественно, что ничто сколько-нибудь заметное не должно быть обойдено вниманием и пониманием, ибо и литературе и обществу необходима вся полнота правды о творческом... самочувствии народа» (С. Чупринин). Чуть-чуть уточним известного критика. Вернее говорить о «творческом самочувствии» общества. Более того, это внимание и понимание, этот равноправный, обеспеченный за счет одного из собеседников набором, бумагой и прочими полиграфическими услугами, диалог, полезная сшибка мнений, взаимопроникновение позиций – все это не просто справка регистратора, а побудительный толчок к дальнейшим дерзаниям.
Стоит ли напоминать, что по сравнению с мучительной издательской практикой прошлого «Жибек жолы» – место, где не душат начинающие таланты, а помогают, где не отделяют овец от козлищ, не занимаются старинной неумной игрой в друзей и недругов, там держат открытый редакторский стол, а за ним сидит миротворец, терпеливый, держащий в крутой узде собственное самолюбие, успешно отыскивающий нечто стоящее и выпускающий это стоящее в свет. Да, не все гладко, не все безоблачно, и ангельскую атмосферу, райскую ауру лучше поискать где-нибудь в другом месте, не каждое издание становится успешной строкой – что поделаешь. Зато многое удалось, создается верное общественное мнение, в световой круг интеллигентского внимания попадает многое и совершенно по заслугам. И к восстановлению несправедливо забытого и отодвинутого в тень, к возрождению людей, память о которых, откровенно говоря, дело святое и обязательное, Канапьянов также имеет прямое и повседневное отношение. А спекулировать на обширном губительном «подростковом» любопытстве современного невоспитанного читателя к эротически-криминальному чтиву, к отравленной жаждой наживы макулатуре Канапьянов не собирается.
Некогда – это неприятное время, слава Богу, осталось в прошлом – за стихотворение о горечи и боли автора, связанной с двумя мощными языковыми стихиями, разрывающими сознание, затемняющими для совестливого человека миропонимание, Б. Канапьянова многократно подвергали публичной экзекуции. В порыве честного раскаяния поэт даже прибегнул к хлесткому обвинительному термину «двуличие». Прошедшие годы показали, что подобный самооговор не столь справедлив, как это виделось тогда. Бахытжан никогда не был двуликим Янусом, не менял овечьей шкуры на волчью, наоборот, он всегда оставался многоликим, не потерял, проходя вместе с эпохой по ее крутым маршрутам, ни одного своего «лица», став, бесспорно, значимым лицом ныне протекающего времени.
Достаточно раскрыть наудачу любую позднюю книгу Канапьянова, будь то «Ландшафты» или «Над уровнем жизни», чтобы осознать, как плотно вписаны искренние строки в то, что совершается сейчас и еще совершится завтра и послезавтра:
Путь начинаем с пешки,
Но кто-нибудь из нас
Предстанет в этой
спешке
Фигурою на час...
В одной из этих партий
Пытаюсь то найти,
Что не успел на старте,
Что потерял в пути...
Об этом же свидетельствует и выход альманаха «Литературная Азия» (Алматы, 2002). Не в обиду предшественникам и продолжателям казахстанского выпуска альманаху посчастливилось, что его составителем стал Бахытжан Канапьянов. А составлен этот альманах «по знакомству». Вот только по особому, пристрастному и охватывающему обширное литературно-философское и житейское пространство знакомству. Он знаком не столько с авторами, сколько с героями очерков, эссе, критических и аналитических статей.
Здесь, пока это к слову, скажу об отрывке из моей книги «Евразийский Лев», включенном составителем в альманах. Бахытжан вживую общался с Львом Николаевичем Гумилевым, как и с Аланом Георгиевичем Медоевым, героем мемуарного эссе Константина Кешина «Страстные силы мира». По собственным воспоминаниям Б. Канапьянов написал о литературоведе Евгении Озмителе, о великом русском поэте Арсении Тарковском.
Поразительно обилие имен, представленных в альманахе, от аль-Фараби и Рудаки до Беллы Ахмадулиной и Юрия Трифонова. Одно только неполное перечисление рубрик (подразделов) альманаха показывает, с какой прицельностью трудился составитель, ведомый все той же единственной поэтической звездой: «Наше наследие», «Антология евразийской поэзии», «По волнам памяти», «Исследования», «Публицистика», «Наш календарь»...
С постоянством великого собирателя Бахытжан Канапьянов отбросил ограничительные и запретительные правила, которым совсем недавно истово подчинялись многие не только литературные чиновники, а также церберы редакционно-издательского заколдованного леса. Он не признает никаких разграничительных рубежей, его исповедание веры – спокойная толерантность, заинтересованность во многой мудрости со всех сторон, а Канапьянов умеет извлекать зерно плодоносной истины из самого что ни на есть скромнейшего «материала». Ему «...так весело, так интересно расставлять вешки понимания в сложном, многокоординатном пространстве», не подчиняясь чужим вкусам и пристрастиям.
Генеральный алгоритм «Литературной Азии» тот же самый, что и в высокой жизненной философии Канапьянова, – добро непременно отстранит зло в событиях и обстоятельствах действительности. Только не надо размывать горестной рефлексией четкие понятия о чести, о благородстве, о любви к ближнему, в особенности если этот самый ближний избрал пожизненным занятием каторжную стезю словесного искусства.
Читатель «Литературной Азии» не только присоединяется к широкой осведомленности Б. Канапьянова о поэзии Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Башкирии и многих других глубинных участков Евразийского континента, о творчестве поэта-воина Махамбета, о литературно-философских, переводческих и прочих проблемах, но и получает возможность самостоятельно работать по пунктирным наметкам составителя над контурной картой поэзии и прозы Центральной Азии, Востока, России и Китая.
Для Б. Канапьянова характерна терпимость по отношению к литературным не то что бы противникам, но далеко не единомышленникам. А себе и друзьям – «зеленая улица», т. е. помощь и поддержка, которая во всех смыслах дорогого стоит в нынешние времена. И как не согласиться со святой верой Бахытжана, что Центральная Азия – сердцевина Евразии, что Алма-Ата – одна из столиц мировой поэзии.
«Литературная Азия» позволила больше узнать о самом Канапьянове как литераторе. Интенсивностью творческого поведения он напоминает поэтов начала прошлого века, людей программ и манифестов взахлеб; они не очень-то поклонялись божественному олимпийскому одиночеству, они объединялись и становились то «Серапионовыми братьями», то акмеистами, то имажинистами... Б. Канапьянов – обладатель серьезной многосторонней образованности и патриотического темперамента. Вот почему он как составитель и главный редактор «Литературной Азии», прикинув, чего нет в арсенале нынешнего критического изучения, сам принялся за работу. Это и информационный обзор «Новости Евразии», и собственные стихотворения в пространной «Антологии евразийской поэзии» («Без меня народ (поэтический) неполный»), и воспоминания очень личностные о литературоведе Евгении Озмителе из братского Бишкека, работы которого незаслуженно замалчивались; и очерки о Махамбете Утемисове и Магжане Жумабаеве. Недавно в «Жибек жолы» вышла книга стихотворений и поэм М. Жумабаева «Пророк» с предисловием Б. Канапьянова, он же и составитель книги.
Задолго до нынешнего Года Махамбета поэта-воина переводили немало и в разные времена. Среди переводчиков и истолкователей найдем имена Олжаса Сулейменова и Андрея Вознесенского. Совместить в подробном разборе стихи того и другого – тема эта напрашивалась несколько десятилетий. И все же впервые об этом написал и напечатал в «Литературной Азии» опять-таки Б. Канапьянов. В альманахе нашлось место и его переводам из Махамбета...
Очень много нового, в том числе чисто биографического, узнали мы о самом Бахытжане Канапьянове из альманаха «Литературная Азия», о многом вспомнили, о многом задумались, в частности, о блистательной школе русского поэтического перевода, о насущной необходимости современной исповедально-лирической прозы, о философской публицистике, о погружении в глубины старинной поэзии Востока... Поневоле поставишь эпиграфом к альманаху крепкого созидательного посыла строки Беллы Ахмадулиной: «Эге-гей! Эта жизнь неизбывна! Как свежо мне в ее ширине!» Эта свежесть относится и к составителю, и к читателю.
Без «Литературной Азии» мы бы не досчитались многих черт в творческом портрете Б. Канапьянова. Он – оптимист, причем без жесткой хватки «собственника»-монополиста – безвозмездная перепечатка из альманаха разрешена – только не забудьте, пожалуйста, сослаться, откуда берете. Казалось бы, в наше время откуда взяться оптимистическому мировоззрению? В одной из статей С. Чупринина о евразийском поэте Леониде Мартынове написано: «Великодушно протягивающий руку дружбы всем, в ком сохранилась хоть капля отроческого воодушевления и отроческого энтузиазма». Для Б. Канапьянова, и это бросается в глаза всем, кто его знает, состояние молодости – единственная форма существования, и я надеюсь еще многого дождаться от такого юношеского поведения.
И самое неожиданное в альманахе для творческого портрета Канапьянова – сюжетная проза «Бахчисарай». Он бесстрашно ступил на новую стезю.
По меткому выражению проницательного «последнего евразийца» Льва Николаевича Гумилева, судьбы мира в третьем тысячелетии будут решаться на евразийском пространстве. Судьбы литературы – отражение судеб мира в магическом зеркале вдохновения и воображения. Человек, который это понял глубинно, молчать не может. Он и не молчит. Он говорит восторженно и емко, не примитивно, но доступно и понятно, причем не только стихами и прозой, но и всеми своими делами. Он обогащает не очень-то мощный слой ближнего культурного космоса, который должен развиваться на наших глазах, вбирая все лучшее из прошедшего и перебрасывая мосты в дальние времена.
Для меня альманах «Литературная Азия» – кристалл горного хрусталя, в котором отражается и мой взгляд на Поэта в своем времени – бесспорного победителя в творческом и жизненном многоборье. Редкое качество. Мне бы хотелось, чтобы читатели оценили эту добытую трудом и совестью гармонию, с которой жить ее носителю, может быть, даже труднее, чем без нее.
Мы не ошибемся, назвав Бахытжана Канапьянова нашим спутником и соратником, собеседником, с которым не так страшны грустные часы печали и одиночества, с которым главными непреходящими событиями нашей жизни по-прежнему остаются дружба и верность, творчество и доброта.
Завершая свою небольшую работу о том, как я понимаю Бахытжана Канапьянова, что думаю о его жизненной стезе, еще раз убеждаюсь в правильности моего первоначального заявления – поэт, критик, прозаик, переводчик, кинематографист, издатель, меценат, путешественник – житейски-творческое многоборье, иного слова нечего искать. Как нет смысла искать, кому сегодня вручать лавровый венок победителя-десятиборца. Он не столько одинокая звезда, сколько созвездие.
Со всем тем я неохотно расстаюсь с героем своей книги. И меня утешает лишь то обстоятельство, что я оставляю гроссмейстера за шахматной доской мироздания.
Татьяна Фроловская
2002 г.
Количество просмотров: 14201 |


