Главная / Художественная проза, Крупная проза (повести, романы, сборники) / — в том числе по жанрам, Драматические / — в том числе по жанрам, Военные; армейские; ВОВ
Произведение публикуется с разрешения автора
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 13 августа 2012 года
Сын Ра
Эта книга является автобиографическим романом Сергея Эдуардовича Воронина – доктора юридических наук; специалиста в области уголовного процесса, криминалистики и юридической психологии; полковника милиции в запасе. В настоящее время С.Э. Воронин работает в должности профессора Международного института судебных экспертиз и права в городе Красноярске. Книга рассчитана на весьма широкий круг читателей, которым не безразлична судьба нашего народа и Отечества.
Публикуется по книге: Воронин С.Э. Сын Ра. – Красноярск, 2011. – 315 с.
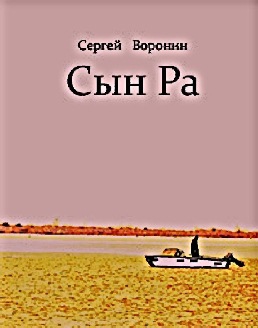
АННОТАЦИЯ
Автобиографический роман Сергея Эдуардовича Воронина «Сын Ра» выполнен в новом, необычном для современной литературы жанре, который представляет собой одну из разновидностей литературного импрессионизма – это так называемый «эзотерический роман – «колесо» (имеется в виду Колесо Времени), написанный в жесткой хронологии «реального времени». «Изюминка» романа – «колеса» состоит в том, что он пишется и публикуется постепенно, по главам – по мере поступления фактов и событий, происходящих в жизни главного литературного героя – как бы «считывается» автором произведения с виртуального Колеса Времени, которое он мысленно вращает по часовой и против часовой стрелки. Этот универсальный принцип вращения Колеса предполагает также учет «триединства Времени» в художественной литературе, суть которого состоит в одновременном описании автором событий прошлого, настоящего и будущего; а также логическом увязывании их в единую сюжетную канву. Вся сюжетная линия романа мистическим образом, своеобразным колесом, вращается вокруг всего лишь одного литературного персонажа, в отдельно взятой истории которого, как в капельке росы, отражается новейшая История нашей великой Родины.
«Роман – «колесо» имеет завершенную концентрическую форму, поэтому, несмотря на все перипетии сюжета, финал романа, в конце концов, обязательно сойдется с его началом. Для усиления «эффекта присутствия» в центре описанных автором событий предусмотрено и специальное приложение к роману с богатым иллюстративным материалом в виде фонограмм авторской музыки и фотографий. Приятного Вам прочтения, просмотра и прослушивания!
ДЕТСТВО
Я родился солнечным июньским утром в небольшом, очень уютном сибирском городке, раскинувшемся на левом берегу величественной Оби. Моя мама долго пыталась избавиться от бремени, но я, видимо предвкушая грядущие превратности Судьбы, упорно не хотел покидать теплое, насиженное место. «Наверное, придется наложить «лапу»», — мрачно произнес врач-акушер Сергеев, со зловещей улыбкой доктора Геббельса подходя к столу, на котором лежали акушерские щипцы, называемые на профессиональном жаргоне «лапой». Его слова определенно возымели на меня действие, и я поспешил покинуть ставшее до боли родным убежище, возвестив мир о своем появлении тонким противным писком. Да и то сказать, по статистике около 90% случаев применения «лапы» заканчиваются родовой травмой и слабоумием ребенка. Это в мои и Создателя планы явно не входило.
Роддом №2 г. Барнаула, где произошло это «космическое» событие, находится до настоящего времени практически в центре города. Слева здание роддома соседствует с шикарным, очень любимым горожанами кондитерским магазином «Лакомка», справа — с городским моргом и примыкающим к нему морфологическим корпусом мединститута. Архитектор, задумывая эту экзистенциальную архитектурную композицию, по всей видимости, был большим философом, давая роженицам возможность изо дня в день из окна больницы наблюдать печальную картину смерти и задумываться над бренностью человеческого бытия. Как я понял много позднее, именно под знаком земных удовольствий, символизируемых «Лакомкой», и постоянного ощущения смерти, которая не пугала, нет, но всегда вызывала почти болезненное любопытство и мистическое уважение, и присутствие которой, как Дамоклов меч, я постоянно ощущал всеми фибрами души, и пройдет вся моя дальнейшая жизнь. «Memento mori» — помни о смерти», — говорили древние римляне, и как же они были правы! Лишь конечность бытия заставляет человечество медленно, но все же двигаться вперед. Если бы Господь вдруг, шутки ради, вздумал дать Человеку бессмертие, Он обрек бы мир на вечную стагнацию и абсолютный хаос. Смерть — это вечный двигатель, вселенский источник прогресса, с гениальной прозорливостью подаренный Создателем нашему тленному миру.
Мое детство прошло безоблачно и вполне счастливо. Моих родителей огорчало только то обстоятельство, что я рос невероятно тщедушным «дрищем», в котором неизвестно в чем и как душа теплилась. Я мог не есть сутками, при этом всегда был заводилой всех мальчишеских компаний, игр и потасовок. Удивительно, но противнее ребенка, чем я, мне не приходилось в жизни встречать. Во мне, как будто, сидел какой-то чертенок, заставляющий делать постоянные гадости окружающим людям и устраивать мелкие провокации, за что я, вполне законно, получал по шее от старших товарищей, но уроков воспитания хватало ненадолго — не успевали сойти синяки и ссадины, как я затевал очередную пакость. В общем, старуха Шапокляк всегда была для меня невероятно притягательным образом и практически родным существом. Некоторые мои детские поступки до сих пор вызывают у меня чувство жгучего стыда, как будто я совершил их вчера.
Дело в том, что в детстве я был патологическим ябедой. Провоцируя ребят и нарываясь на конфликты, я тут же бежал жаловаться отцу, который всегда отличался крутым нравом. За этим неизбежно всегда следовала отцовская «вендетта», о которой во дворе ходили легенды. Мальчишеский фольклор из уст в уста передавали «предания», в которых славный Бэтмен «папа Эдик», работающий в то время следователем МВД, устроил стендовую стрельбу из табельного пистолета в парке Меланжевого комбината по бегущему кабану, роль которого успешно исполнил дебильный сын нашего слесаря из 33 квартиры Леня. И, хотя пули из пистолета Макарова лишь свистели над головой бедного Лени, срезая, как мачете, веточки березы, молва о героических подвигах доморощенного Бэтмена быстро распространилась от района ВРЗ до Жилплощадки — этих двух исторически конфликтующих территорий Барнаула, также, как и в известном американском мюзикле «Вестсайдская история». Не знаю, был ли в реальности этот факт, а отец всячески открещивается от этого, но событие произвело несомненный положительный эффект — меня стали бояться, а отца уважать. И здесь вновь проявилась моя противная, гнилая натура. Вместо того, чтобы «почивать на лаврах», по-павлиньи распушить хвост и радоваться жизни, я с удвоенной энергией бросился осуществлять новые провокации и пакости, вынуждая ребят избивать меня, несмотря на страх возмездия. И вновь заработала привычная схема: ребенка обидели, ябеда бежит к отцу, очередная «вендетта». Тут уже кончилось терпение у моего отца и перед каждой «спецоперацией» он «накладывал» по полной программе уже мне, выражая тем самым досаду на то, что стараниями сына превратился во Франкенштейна — пугало для всего двора. А ребята, в конце концов, объявили мне бойкот. Это был первый бойкот в моей жизни, который произвел на меня очень сильное впечатление. До сих пор от этого бойкота у меня осталось ощущение холода и гнетущего одиночества. А причиной послужило следующее событие.
По соседству с нами в 35 квартире (а мы жили по адресу пр. Комсомольский, дом 132, кв. 34) проживала семья потомственного строителя Виктора Епифанова. У него было двое детей: Лена, моя ровесница, и Сергей, старше меня на 2 года, что по детским меркам — очень существенная разница. Лена Епифанова — моя первая любовь — первое щемящее и радостное чувство без примеси сексуальности; настоящая квинтэссенция Любви, достигаемая мальчиками только в раннем возрасте — еще с детского сада «Снегирек», в котором мы были в одной группе. Любовь этой смуглой девочки, похожей на очаровательную обезьянку лемура, давалась очень не просто и стоила мне многочисленных тумаков и ударов Судьбы. Моя павлинья сущность активно протестовала против чужого успеха; ревностно относилась ко всяким, даже незначительным, знакам внимания, оказываемым Леной другим, но только не моей персоне. Чтобы привлечь ее внимание, моя креативная натура пускалась на всяческие ухищрения.
Однажды осенью наша группа детского сада была выведена воспитателем Валентиной Александровной на прогулку. Стояла классическая «болдинская осень», настоящее буйство красок увядающей природы. Дети, как всегда, играли на веранде. Валентина Александровна, обычно пребывающая в угрюмо-раздраженном состоянии, в это утро была непривычно весела. Оживленную краску в общую палитру радостного возбуждения добавил мальчик Вася, принесший в ведре желтые, багряные и оранжевые листья, которые высыпал на веранде и стал охапками подбрасывать вверх. Листья феерически закружились в воздухе, завораживая взгляд и вызывая всеобщее ликование. «Очень красиво! Какой ты — молодец, Вася!» — молвила Валентина Александровна, а Лена одарила Васю таким взглядом, за который я был готов спрыгнуть с моста через Обь. Этого я не мог простить мальчику Васе. Я взял ведро и, не уточняя, где он взял такие красивые листья, отправился к ближайшей помойке, набрал листьев, которые щедро нагреб дворник, пришел и с большим пафосом вывалил содержимое на веранде. Все бы ничего, но листья, как оказалось, содержали «натурпродукт», а именно — собачьи фекалии. Стоит ли говорить, какой эффект произвело мое действие! Валентина Александровна в один миг навсегда избавилась от депрессии, как заправский каратист ребром ладони врезала мне по шее, а потом схватила за ухо и крутанула его так, что кровь фонтанчиком хлынула из ушной раковины. Эта странная физиологическая особенность моего организма, которая объясняется, очевидно, слишком тонкими капиллярами, близко прилегающими к барабанной перепонке, не раз потом выручала меня в армейских драках. Обильное кровопускание из уха при малейшем ударе, не причиняющее серьезного вреда моему здоровью, повергало противников в панический ужас и заставляло их отказываться от дальнейшего насилия. Валентина Александровна, помнится, тогда сильно испугалась, повела меня в душевую, где поспешно замыла «следы преступления», а потом перед отцом, который пришел меня забирать, разлилась такие елеем, что мне стало противно. Родителям я ничего не сказал про инцидент; мне было не до того — жег стыд при воспоминании о презрительном взгляде, которым одарила меня Лена — свидетель неудавшегося «праздника золотой осени».
Были и другие, не менее «удачные» попытки завоевать любовь этой смазливой девочки. Однажды, насмотревшись художественного фильма «Красная палатка», я решил продемонстрировать перед Леной и всем двором свое презрение к холоду. Напомню, что там главный герой, закаленный полярник, отдает свою одежду замерзающим товарищам, оставаясь лишь в нижнем белье при 50 — градусном морозе. Очень мне понравился тогда этот эпизод. И вот одним морозным февральским утром, обнаружив во дворе достойную моего внимания публику и Лену, я громогласно объявил: «Смотрите все!» — стал сбрасывать с себя одежду в снег, оставшись лишь в трусах и майке. На доморощенного придурка вышел посмотреть почти весь наш дом, в котором жили, преимущественно, сотрудники милиции. Но на мою беду из магазина возвращалась мама, которая не дала мне погреться в «лучах славы», тут же от души всыпала «полярнику», и, схватив со снега одежду, потащила своего «отморозка» домой. Очередная попытка завоевать женское сердце провалилась!
И все-таки, не помню как и когда, но мне удалось переломить ситуацию – Лена, наконец – то, ответила мне взаимностью. Мы стали дружить, и эта дружба продолжалась с 1 по 3 класс. Главная ошибка взрослых состоит в том, что они недооценивают детей, их несомненную эмоциональную зрелость, иногда на равных конкурирующую с эмоциональностью взрослых. Порой мне кажется, что Создатель, к 5 годам заканчивая формирование сознания и восприятия человека, проносит их, практически без изменения, через всю человеческую жизнь. Во всяком случае, сейчас я полностью идентифицирую себя с тем влюбленным мальчиком Сережей, прекрасно помню свой тогдашний стыд за неблаговидные поступки и свои любовные переживания, которые и сейчас свежи в воспоминаниях, как будто это было вчера. Нежная любовь двух маленьких существ проявлялась в довольно целомудренных вещах: вместе мы уходили и возвращались из школы, причем я, конечно, нес портфель Лены; по-детски неуклюже обнимались по углам; не помню точно, целовались ли, но если целовались, то только в щечку.
А еще я одаривал Леночку подарками из маминого гардероба. Дело в том, что 70-е годы прошлого столетия давали посыл скромного бытия практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Женщины того времени одевались примерно так же, как китайцы периода «культурной революции» — не серые френчи, конечно, но очень однообразно и убого. Глазу не за что было зацепиться на улицах города: всюду мелькала продукция барнаульской фабрики «Авангард» одинакового покроя и расцветки. Моя мама, гордая полячка, никогда бы не смирилась с таким однообразным «безобразием». Куда бы мы не приезжали, на новом месте мама всегда обзаводилась личным портным, у которой «обшивалась» по выкройкам из советских журналов мод. И вещи у нее, скажу я вам, по тем временам были весьма эксклюзивными. К каждой вещи: платью или костюму — мама старательно подбирала бижутерию, скромную по цене, но подобранную со вкусом и несомненным декоративным изыском. Хранилось все это мамино «сокровище» в малахитовой шкатулке. Именно на эту шкатулку с бижутерией я и «положил глаз», и именно она стала причиной истории, которую я никак не могу вам рассказать, без конца отвлекаясь на частности.
Тактика изъятия драгоценностей для Лены из шкатулки была разработана мной в полном соответствии с законами психологии — я выбирал неброские украшения, чтобы мама раньше времени не заметила пропажи, причем с учетом сезонности одежды, для которой предназначалась бижутерия. Но если бы вы только видели, сколько счастья светилось в карих глазах Леночки, когда я торжественно вручал ей очередной подарок из волшебной маминой шкатулки! Нет, безусловно, моя авантюра стоила того. Однако праздник души кончился также внезапно, как и начался.
Однажды со своим другом Андреем Маркиным я катался с горки в парке Меланжевого комбината. Это был самый настоящий бобслей, где в качестве боба использовались строительные носилки. С оглушительным грохотом мы вдвоем на носилках носились по ледяной горке, испытывая чувство восторга и адреналин заправских гонщиков. На нашу беду, на горку пришли дебил Леня (классический олигофрен в степени дебильности из «нехорошей» 33 квартиры) и брат Лены Сережа, который тут же принялся дразнить меня: «Жених и невеста, тили — тили тесто! Ну что, Ленкин хахаль, когда свататься придешь? Брошку — то уже подарил!» Не знаю почему, но его слова очень сильно задели меня. Мне стало жутко стыдно перед Андреем Маркиным. Дело в том, что в то время все, кто дружил с девочками, заслуживали всеобщего презрения в мальчишеской среде. Какой-то бесенок стал нашептывать мне подлые, предательские слова — и меня прорвало: «Ха, нашел невесту! Да, если хочешь знать, я ей ничего не дарил, она украла эту брошь, а ты — козел, самый настоящий!» После этих слов Сергей накинулся на меня и надавал мне довольно увесистых пинков. К нему присоединился дебил Леня, причем под раздачу попал и Андрей Маркин. Придя домой с заплаканным лицом и явными следами побоев, мне пришлось все рассказать отцу, который тут же отправился выяснять отношения к слесарю, отцу Лени, в соседнюю 33 квартиру. Через некоторое время в нашу квартиру потянулась шумная процессия: слесарь, его жена и сам Леня решили устроить нам большое «психопатическое шоу». И, хотя я ненавидел этого дебила за то, что он связывал кошкам лапы и сбрасывал их на неминуемую гибель с парашютной вышки в парке, эта душераздирающая сцена до сих пор стоит перед глазами. Тандем кикбоксеров — слесарь и его жена — со словами: «Ты зачем обидел Сережу?»— проводил академические серии точных, хорошо поставленных ударов руками и ногами по дебильной голове и филейной части туловища Лени. При этом он визжал, как свинья, а из глаз, как у заправского клоуна, фонтанами били слезы. Тогда, уже в детстве, я окончательно понял, что никогда не смогу работать исполнителем смертных приговоров, хотя, как известно, «...все работы хороши, выбирай на вкус!»
Но неприятности не приходят в одиночку. Недаром народная мудрость гласит: «Пришла беда — открывай ворота». Как — раз в это время мама заметила пропажу брошки, а доброхот Сережа передал мои подлые слова своей сестре Лене. Мама учинила весьма серьезный «разбор полетов», по результатам которого прямым ходом отправилась к Лениным родителям и вернула, наконец, потерянную брошь. Лена, как и следовало ожидать, перестала со мной разговаривать, и, в довершении ко всему, Сережа попал под «горячую» руку моего отца, который возвращался с работы далеко не в лучшем настроении, увидел обидчика сына и на глазах всего двора устроил впечатляющую, сногсшибательную в прямом смысле слова сцену «вендетты», в которой папа — актер превзошел самого себя.
Утром следующего дня, когда я вышел во двор, стало понятно, что мир изменился, и для меня — далеко не в лучшую сторону. Впереди, около сараев, стояла группа заговорщически настроенных ребят, среди которых был и мой лучший друг Андрей Маркин. Когда я подошел к ним, оживленно разговаривающим о чем-то, ребята разом замолчали, а Андрей демонстративно отвернулся, когда я с ним поздоровался. «Видать, они с ним уже хорошо поработали!» — с грустью подумал я и побрел от них куда глаза глядят. Мимо молча продефилировала Лена с обиженным лицом и взглядом, полным презрения. Ну что же, теперь мне предстояло привыкать к этому новому для меня статусу изгоя, в котором придется прожить несколько месяцев вплоть до отъезда моей семьи на постоянное место жительства в Казахстан.
Тогда, в далеком детстве, я еще и подумать не мог, что, оказывается, Господь уже с детства начал приучать меня к одиночеству — этому поистине самому ценному подарку Судьбы, и что именно в этом состоянии я научусь, в конце концов, черпать вдохновение и в полной мере наслаждаться жизнью. Теперь, благодаря этой суровой школе жизни, я подобен подводной лодке, находящейся в автономном плавании — непотопляемой, с наглухо задраенными люками, лишь изредка всплывающей на поверхность, чтобы лишний раз напомнить людям, что я жив, я — все еще боевая единица и что меня еще рано сбрасывать со счетов. Однако, тогда в детстве, я вдруг с грустью осознал, что вместе с этим первым серьезным уроком человеческого общения, преподанным мне самой Жизнью, навсегда закончилось мое безоблачное детство — родился отрок Сергей, уже наделенный кое-каким жизненным опытом ответственности за свои слова и поступки, а это — непременный атрибут уже взрослой жизни.
ОТРОЧЕСТВО
Осенью 1974 года, в связи с переводом отца на новое место службы — в Высшую школу МВД СССР — мы семьей переехали в Караганду. Начался славный период моей «казахской» жизни, который продлился аж до лета 1981 года. «Запомни правило №1 — никогда не называй казахов «колбитами», — учил меня универсальным правилам обращения с титульной нацией Игорь Сидоров — мой одноклассник и сосед по новому дому на улице Ержанова.— Для казахов это — такое же обидное слово, как для афроамериканцев слово «ниггер». «Но почему, что в этом обидного? — слабо протестовал я.— Ведь слово «колбит» производно от двух английских слов: «кол» — уголь и «бит» — бить, что является аналогом слова «шахтер». Ведь хорошо известно, что англичане, у которых в начале 20 века в Казахстане были многочисленные угольные концессии, активно использовали местных казахов на работах в шахтах». «Я не буду с тобой спорить, — говорил Игорь.-Назови так и посмотришь, что будет. Только я помогать тебе не буду, так и знай. Мое дело — предупредить».
Да, местный колорит в Караганде чувствовался во всем, а азиатская экзотика на первых порах вызывала у всех нас, особенно у отца, чувство настоящей эйфории. И, действительно, по сравнению с порядком надоевшим Барнаулом, Караганда предстала перед нами в изумительном блеске. Мы гуляли с папой по широкому проспекту имени Нуркена Абдирова — казахского летчика, повторившего подвиг Гастелло в годы Великой Отечественной войны; пили кумыс, который продавался на каждом шагу вместо кваса; ели бешбармак в кафе «Ботакоз», что означает по — казахски «верблюжий глаз» — в общем наслаждались жизнью по полной программе в этом, как нам тогда казалось, благодатном азиатском крае.
Было еще одно обстоятельство, которое выгодно отличало Караганду от Барнаула в начале 70 — х годов прошлого века и особенно радовало маму — продуктовое изобилие в магазинах. После хронической «торричеллиевой пустоты» на барнаульских прилавках нам реально казалось, что мы попали в рай — сказывалось шахтерское спецснабжение в городе всесоюзного значения.
Одно только на первых порах угнетало нас, лесных жителей Алтая — отсутствие природы за городом. После богатого ленточного бора — реликтового хвойного леса ледникового периода в Барнауле — казахстанская степь, бескрайним океаном раскинувшаяся вокруг Караганды, выглядела весьма убого. Понадобилось время, чтобы находить прелести и в этой аскетической природе. Да и действительно, степь по — своему тоже может радовать глаз, если вы, конечно, не агрофоб, причем ничуть не меньше, чем леса и горы.
Особенно хороша казахстанская степь весной. Красный диск Солнца, встающий над горизонтом как гигантский НЛО, в одно мгновение преображает степь, добавляя в разноцветную палитру весенних цветов и трав мягкие сюрреалистические оттенки; благоухающее разнотравье, как в замедленном кинокадре, плавно колышется в плазме солнечного ветра; томится на солнышке, погружая вас в волшебный мир степных ароматов. Все ваши органы чувств работают на пределе, жадно пытаясь охватить, ощутить, вобрать в себя все это великолепие! Создатель лишь раз в году позволяет себе «по полной программе» расслабиться в степи, превращаясь после надоевшей зимы из ворчливого мизантропа в настоящего весельчака и художника-импрессиониста. Гамма используемых Им при этом красок впечатляет: красные и желтые тюльпаны, пунцовые маки и низкорослые ирисы с желтыми и фиолетовыми цветами, пахучие фиалки и лиловые анемоны, легкомысленные лютики и аппетитные кустики дикой спаржи — все сливается в разноцветную радугу, многоголосый хор запахов и акварелей весенней степи. Мне довелось побывать и в пустыне Гоби, и в рериховских сакральных уголках Горного Алтая. И можно поспорить, где дыхание Космоса ощущается сильнее. Во всяком случае, мне на собственном опыте удалось убедиться, что медитативные практики монголов — кочевников нисколько не уступают духовным практикам тибетских монахов.
Пока шли отделочные работы в нашем новом доме, отец поселил нас в гостиницу «Чайка» — единственную в то время гостиницу представительского класса. Выглядела она как внушительная усадьба, обнесенная высоким забором, с парком и даже фонтаном внутри. В нашем распоряжении был трехкомнатный номер «люкс», с роскошной ванной комнатой и даже диковинным для того времени биде. На территории гостиницы находилось эксклюзивное двухэтажное бунгало для VIP — персон, а именно — космонавтов, которых после возвращения из космоса, уставших от длительных перегрузок, привозили с Байконура для восстановления сил. Я, вездесущий ребенок, быстро подружился с персоналом гостиницы, который опекал меня как своего сыночка, устраивая импровизированные экскурсии по местным достопримечательностям. Старожил гостиницы дядя Семен, дворник с 30-летним стажем, по «большому секрету» поведал мне, что стены этого особняка помнят Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентину Терешкову. «Милейшая женщина, кстати, и очень скромная в быту!» — рассказывал дядя Семен, с теплотой вспоминая именитых постояльцев гостиницы.
Фантазия дяди Семена не знала границ. В гостинице жила всеобщая любимица персонала пожилая дворняжка Белка — вислоухая сука — альбинос с заостренной, но очень выразительной мордочкой. Дядя Семен шепотом поведал мне «важнейшую государственную тайну», предварительно взяв с меня обязательство о неразглашении: «Это — та самая Белка, которая со Стрелкой слетала в космос!» Я был поражен до глубины души этим известием, хотя червь сомнения продолжал грызть мое детское сознание: «А где же тогда Стрелка?» «Мы похоронили ее год назад, — невозмутимо отвечал дядя Семен. — Хочешь, покажу тебе могилку?» Могилку героической собачки я смотреть не стал, наконец — то, поверив в легенду «космической одиссеи 1960 года». При этом я стал относиться к Белке с таким почтением и трепетом, с которым, наверное, не относился бы к Валентине Терешковой, будь она сейчас в гостинице. К сожалению, Белка не ответила мне взаимностью и даже слегка тяпнула меня за руку, когда я пытался достать ее новорожденного щенка, еще слепого кутенка, из собачьего закутка в кочегарке гостиницы.
Территория гостиницы «Чайка» вплотную примыкала к высокому забору, отгораживающего нас от городского парка-дендрария — предмета особой гордости карагандинских ботаников. Дело в том, что разбить такую богатую лесопарковую зону в Казахстане стоит неимоверных усилий. Всего на глубине 1 метра в карагандинской почве залегают смертоносные для всех растений солончаки, которые не дают корням деревьев уходить вглубь почвы, а, значит, не дают возможности черпать из нее необходимые для жизни соки и минеральные вещества. Поэтому труд местных ботаников, превративших степную Караганду в зеленый оазис, безусловно, заслуживает всяческого уважения. Пожалуй, кроме Барнаула, который по праву называют «Зелеными Афинами», и славного города на Амуре Хабаровска, утопающего в буйной зелени как заправский южный город, я не встречал таких озелененных городов на просторах нашей, тогда необъятной Родины. Парк — дендрарий широкой лентой тянулся на многие километры через весь город и заканчивался ботаническим садом, рядом с которым и находился наш новый пятиэтажный дом на улице Ержанова. Оглядываясь на прожитые годы, могу с уверенностью сказать, что в Караганде на тот момент было два подлинных чуда Света: одно рукотворное — это Ботанический сад, и второе нерукотворное — Федоровское водохранилище.
Оказавшись в Ботаническом саду, можно было в полной мере почувствовать себя в лесах средней полосы России, затеряться среди многочисленных березовых аллей и дубовых рощ. Молодые березки были с такой нежной и тонкой кожицей, что их белоснежные стволы вызывали на ощупь полное ощущение человеческой плоти, а прикосновение к ним — почти эротические чувства. Предметом особой гордости карагандинских ботаников, конечно же, была оранжерея, в которой росли пальмы, баобабы и другие экзотические деревья тропической флоры. Но объектом «плотского» вожделения мальчишек в Ботаническом саду, конечно же, были ягоды ирги, которую в Казахстане называют, почему-то, иргисом. Это — очень красивое дерево, небольшая рощица которого являлась настоящим украшением Ботанического сада. Ирга в мае покрывается белой пеной цветочных кистей, напоминающих черемуху. Кстати, и своим вяжущим вкусом ирга также напоминает черемуху и черноплодную рябину одновременно. Кусты обильно увешаны кистями ягод зеленой, красной и почти черной окраски, на которые ранней осенью жадно слетается птичья и мальчишеская братия. Особенно хороша ирга осенней порой, когда ее листва окрашивается в оранжево-красные и пурпурные тона. Напомню, что все это чудо было сотворено людьми в практически безжизненной солончаковой зоне, что стоило им поистине титанических усилий; труда и стараний этих прекрасных людей, фанатично преданных своему делу.
Другое чудо природы — это Федоровское водохранилище, названное так в честь пригородного поселка Федоровка. Несмотря на то, что это озеро располагалось на территории угольного разреза, поэтому местами достигало глубины до 200 метров, оно имело уникальную в своем роде нерукотворную природу. Когда-то это было процветающее государственное предприятие — угольный разрез, в котором уголь добывался открытым способом. Но в один из несчастливых дней гигантский экскаватор задел и повредил водную артерию земли; вода мощным потоком хлынула в разрез, похоронив под своей толщей всю технику и тонны уже добытого угля. Однако, несмотря на стремительность происходящих событий, людей удалось вовремя эвакуировать. Аквалангисты, которые изредка погружались на большую глубину водохранилища, рассказывали, что там, на дне, перед вами предстает совершенно сюрреалистическая картина из фантастического блокбастера — экскаваторы, грузовики и прочая горнодобывающая техника покоится под водой практически в нетронутом виде, как будто оставлена и брошена людьми на произвол Судьбы только вчера.
Федоровское водохранилище всегда являлось излюбленным местом отдыха карагандинцев. Чистейшая, почти родниковая вода, обладающая свойствами самоочищения и регенерации, приятно охлаждала в знойные летние дни, а импровизированная лодочная станция, на которой можно было недорого взять на прокат лодку — «казанку», делала отдых просто незабываемым, особенно для тринадцатилетнего подростка, который «слаще» грязного пруда в Меланжевом парке Барнаула ничего и не пробовал.
Как-то раз, мы с папой, как заправские два капитана, взяли лодку на два часа и отправились в открытое плавание между островами, образованными бывшими терриконами, на которых уже давно по-хозяйски обосновалась буйная растительность. Высаживаясь на этих необитаемых островах, мы в полной мере ощущали себя Робинзонами, но на одном из островов нас ждало некоторое разочарование — там уже вовсю резвилась шумная компания подвыпивших молодых парней, лишая тем самым наше «морское» путешествие приключенческого флера. «Эдуард Ионович, товарищ майор, присоединяйтесь к нам!» — крикнул один из молодых людей, приветливо помахав нам рукой. Этим парнем оказался Сережа Гирько — курсант Карагандинской высшей школы МВД СССР. Представляю, как бы мы с ним были удивлены, если бы тогда узнали, что через 30 лет я, полковник милиции и доктор юридических наук, буду работать в Москве под началом генерал-майора милиции Сергея Ивановича Гирько во ВНИИ МВД России. «Леша Ширванов как-раз раков наловил, и мы их сейчас сварим! — радостно доложил Сергей, подготавливая закопченную кастрюлю для будущего «изысканного» блюда. — Правда, это — ну очень маленькие раки, но по три рубля, как у Романа Карцева!»
Удивительные пируэты все-таки порой выписывает Судьба — с полковником милиции Алексеем Амирбековичем Ширвановым мы будем сидеть во ВНИИ в одном кабинете, кладя «наши драгоценные жизни» на алтарь ведомственной науки. Я с любопытством наблюдал за усатыми тварями, которых видел впервые в жизни. Одной такой твари я даже сунул палец в клешню, за что немедленно и поплатился. Рассерженный хамским поведением рака и гневно размахивая укушенной рукой, в качестве наказания этого усатого негодяя я отправил первым в кипящую воду, с почти садистским удовлетворением наблюдая, как он покраснел от натуги и злобно «набычился» в кипятке. Всей честной компанией мы принялись жадно уплетать раков, которые оказались пресными на вкус, так как у ребят по «закону подлости» не оказалось соли, но это аппетита нам совершенно не испортило и вскоре с раками было навсегда покончено — на земле остались только панцири и другие несъедобные предметы рачьей амуниции.
Однажды, в один из жарких июльских дней мы повстречали на Федоровском водохранилище моего одноклассника из 47 школы Сергея Новикова, который отдыхал на местном пляже вместе со своим отцом и старшей сестрой Наташей. С Сергеем в школе я практически не общался, так как он казался мне очень высокомерным малым, к которому никак не подступиться. Да и то сказать, ему было от чего гордиться и возноситься над всеми ребятами. Дело в том, в этой же школе работала его мама Тамара Семеновна — преподаватель русского языка и литературы, что обеспечивало Сереже особое положение среди одноклассников и учителей. Особому статусу Сергея способствовали также и его живой природный ум, развитый не по годам довольно сильный интеллект и незаурядное чувство юмора. Вопреки ожиданиям, на пляже, наконец -то, «это божество спустилось с небес» — благо, что там мы все голые, — и я довольно мило пообщался с Новиковым в весьма непринужденной и располагающей к такому общению обстановке. Как оказалось, это стало залогом нашей будущей дружбы, которую мы пронесем через многие годы.
Семья Новиковых проживала по соседству с нами в двухэтажном кирпичном доме постройки 50-х годов на улице Полетаева. С этой же улицы начинался весьма внушительный микрорайон двухэтажек, который, с одной стороны, упирался непосредственно в территорию нашей средней школы №47, а с другой — в гастроном «Айман». Этот гастроном, прежде всего, был замечателен тем, что он выступал своеобразной «государственной» границей для двух соперничающих друг с другом мальчишеских группировок: так называемых «аймановских» или привокзальных и «полетаевских» или «зелентрестовских». Группировки находились в состоянии перманентной войны: периодически сходились «стенка на стенку» на речке «Вонючке» — сточном городском канале, пересекающем поперек обширный район «зелентреста» — городской парковой зоны; устраивали вылазки в стан противника на привокзальную площадь и ответные акции устрашения на территории нашей 47 школы. Я никогда не принимал участия в этих массовых драках по двум причинам.
Во-первых, наш дом на улице Ержанова стоял особняком от всех остальных дворов, поэтому формально все ребята, проживающие в доме, не примыкали ни к одной постоянно действующей на тот момент группировке.
Во-вторых, в отрочестве и юности я был трусоватым и невероятно тщедушным мальчиком, поэтому никогда не рассматривался устроителями потасовок в качестве серьезной боевой единицы.
Однако была и третья, очень грозная сила, перед лицом которой «аймановцы» и «полетаевцы» забывали все свои былые обиды и по возможности объединялись в одну группировку, чтобы дать достойный отпор противнику. Это были чеченцы из Старого города — небольшого пригорода Караганды, в котором тогда компактно проживала чеченская диаспора. Эти жертвы сталинской национальной политики переселения с Северного Кавказа всегда отличались в Казахстане невероятно злобным нравом, коварством и жестокостью. К тому же они не брезговали применять холодное оружие, что делало стычки с ними смертельно опасными. Акции устрашения, которые организовывали и проводили чеченцы, отличались отменной организацией и проводились по всем правилам военной тактики. На моей памяти одна такая акция, которую провели чеченцы в Караганде 9 мая 1977 года.
Этот праздничный день начинался, как обычно, светло и радостно, не предвещая никаких катаклизмов. По главной улице Караганды еще шел военный парад и парад ветеранов Великой Отечественной войны, а группа радикально настроенной чеченской молодежи из Старого города уже готовилась устроить «феерическое» шоу — акцию возмездия за ошибки наших предков. Дело в том, что 9 мая 1944 года — особый день в чеченском календаре. Это — день окончания проводимой войсками НКВД спецоперации под кодовым названием «Чечевица» по переселению чеченцев в отдаленные районы Казахстана и Киргизии. А поводов для этого у советского правительства тогда было более, чем достаточно. Дело в том, чеченцы в годы войны активно сотрудничали с фашистами в борьбе с Советской Армией.
Например, существовали такие соединения Абвера, как зондеркоманда «Бергман», что в переводе с немецкого означает «Горец», укомплектованная исключительно чеченцами. В задачи «Бергмана» входили диверсионно — террористические операции против наших войск, прикрытие войск Вермахта, борьба с советскими партизанами. Северокавказский легион Вермахта составлял достаточно серьезную силу: численность одного только «Бергмана» насчитывала около 1200 человек спецназа, т. е. состоял из серьезных, умелых и закаленных бойцов.
Так что операция «Чечевица» в тех условиях была исторически совершенно оправданной и, безусловно, необходимой акцией, да еще, положа руку на сердце, достаточно гуманной в условиях военного времени. Понятно, что чеченцы оценивают произошедшие исторические события со своей «колокольни», ничего не забыли и никогда не упускали возможности больно укусить власть, демонстрируя свою независимость и «знаменитую» кавказскую гордость. Только за все глобальные исторические решения, принятые когда — либо властями, почему — то, приходится отдуваться простому русскому человеку. Так произошло и на этот раз. Около 21 часа группа чеченцев на четырех автобусах прибыла из Старого города в Караганду. Построившись в стройную колонну, мрачная куклуксклановская процессия двинулась от Привокзальной площади к проспекту Ленина. Чеченцы молча промаршировали по центральной улице города, изредка, по-чеченски гортанно, выкрикивая: «Зиг хайль!» — и вскидывая правую руку. Трусливая казахская милиция, как обычно, попряталась по домам вместе с испуганными жителями. Затем колонна разделилась на несколько групп, которые ручейками потекли вглубь городских дворов и скверов. И пошла кровавая потеха. Били всех русских без разбора, не важно был ли это парень с девушкой, инвалид или подросток. Если кто-то оказывал чеченцам сопротивление, то получал удар ножом. Городские больницы были переполнены пострадавшими от ночных стычек, однако власть, по-прежнему, бездействовала, а знаменитая, лучшая в мире спецслужба КГБ СССР хранила «гордое» молчание и делала вид, что ничего не происходит. Закончив акцию устрашения, «добросовестно» выполнив свою «политическую» миссию, чеченцы, в таком же организованном порядке, что и приехали, с чувством глубокого удовлетворения, наконец, покинули Караганду. Это «эпохальное» событие обросло такими домыслами и небылицами в мальчишеском фольклоре, согласно которым чеченцы разве что гаубицы и установки залпового огня «Град» на площадь Ленина не выкатывали. Долго еще из уст в уста передавались «предания старины глубокой», где малолетние доморощенные «гомеры» для большего эффекта и нагнетания жути не жалели красок, четко выдерживая классический жанр триллера и фильма ужаса одновременно.
Событие, описанное выше, физически прошло мимо меня, так как в Караганде я был абсолютно домашним ребенком и в вечернее время 9 мая, к счастью, уже сидел дома. Но второй, уже реальной встречи с чеченцами из Старого города я, увы, не смог избежать. А дело было так.
Как-то раз, в один из солнечных апрельских дней Сергей Новиков, с которым мы уже вовсю дружили, периодически ссорясь и выдерживая длительные артистические паузы в общении, предложил мне съездить за компанию с ним в Старый город. Дело в том, что в единственном магазине промышленных товаров Старого города «выбросили» в продажу очень дефицитную в то время магнитную ленту «ТАСМА» для катушечных магнитофонов. «Сарафанное радио» в Караганде моментально сообщило, что в чеченский универмаг из Казани привезли большую партию этого «сакрального» для мальчишек товара, причем самой популярной тогда длины магнитной ленты в 480 метров. С самого начала у нас вояж не заладился — мы приехали в аккурат к обеденному перерыву в универмаге. Я не успел ничего сообразить, как к Новикову, прямо на остановке, подошел коренастый чеченец лет 25, который приобнял его за плечи и страстно (во всяком случае, такое впечатление складывалось со стороны) нашептывая ему что-то на ухо, повел его в сторону одноэтажного здания райисполкома (над ним развевался государственный флаг СССР), отделенный от остановки высоким деревянным забором. Мне ничего не оставалось, как проследовать за ними — покорно, как баран навстречу Судьбе. Вано (так звали чеченца, судя по наколке на его правой руке) имел выразительный, бритый наголо череп, глубоко посаженные карие глаза, хищный хрящевидный нос и плотно сжатые тонкие губы садиста. «Ну что ребятки, доставайте мелочь из карманов, начинается «шмон»!» — торжественно провозгласил Вано и для убедительности своих намерений достал выкидной нож зэковской работы из заднего кармана брюк. У Сергея была купюра в 5 рублей (огромная сумма для мальчишки того времени), у меня мелочью набиралось 2 руб 80 копеек — все, что я смог выгрести из маминой шкатулки для «рабочей» мелочи. Все это «богатство» благополучно перекочевало в карман Вано. «А это что у тебя такое, «пистон»?» — радостно спросил чеченец, запуская два пальца в потайной карман моих брюк. «Да нет, — ответил я.— Это — старинные дедовские брюки, перешитые мамой на меня. А карман предназначался для часов на цепочке, которые раньше носили либо в жилетке, либо в брюках, как — раз в этих самых «пистонах».
В этой на редкость пакостной ситуации я решил на полную мощь, что называется, «включить дурака», и, надо признаться, у меня это очень хорошо получилось — чеченцу мое идиотское поведение явно пришлось по душе. «Молодец, разбираешься!» — похвалил меня Вано, которому после удачной «охоты» захотелось культурно пообщаться. «А кто у тебя родители?» — с неподдельным интересом спросил он меня. Судя по всему, я ему, в отличие от Сергея, понравился. Это — редкий случай в моей жизни: обычно по морде в неприятных ситуациях детства всегда получал я, а Новикову удавалось благополучно избегать этой участи. Но тут все случилось в точности до наоборот. «Мама — музыкант, а папа …, — тут я несколько замешкался (попробуй скажи, что папа — подполковник милиции), — тоже музыкант, валторнист». «Ишь ты — интеллигенция. А что такое валторнист?» — озадаченно спросил чеченец. «Ну, это, знаешь, такая здоровая изогнутая труба, туда дуть надо, что есть силы!» — ответил я с некоторой долей фамильярности, как-будто мы были с Вано давними хорошими приятелями. Сергей с завистью посмотрел на меня — мой вдохновенный бред его явно удивил и озадачил. «Какой ты — молодец, во всем разбираешься!» — снова похвалил меня Вано и улыбнулся широкой лучезарной улыбкой. «Ну, а у тебя кто родители?» — с совсем другим лицом обратился он к Новикову. «Папа и мама — учителя», — ответил Сергей и тут же получил резкий удар кулаком в лицо. Он вскрикнул, а у меня вырвалось: «Не надо его бить!» «У тебя еще есть дэнги?» — с сильным кавказским акцентом спросил Вано Новикова и, не дожидаясь ответа, нагнулся, снял ботинки с ног Сергея и профессиональным приемом (по-видимому, имелся определенный опыт досмотров в тюрьме) ножом поддел стельки. Не обнаружив там ничего интересного, чеченец разочарованно, скорее ради проформы, опять спросил Новикова: «А ты зачем сюда приехал, гондон?» Стало ясно, что Сергей избран им в качестве жертвы глумления и повод ему для этого был явно не нужен.
Абсурдность происходящего особенно бросалась в глаза на фоне кричащих декораций этого более чем странного спектакля. Весь этот «гоп-стоп», все это лицедейство происходило, очень буднично и потому особенно цинично, в прекрасный апрельский день напротив правительственного здания райисполкома, в котором никого не было (как назло, была нерабочая суббота). В перерыве между нашим «дружеским общением» к зданию райисполкома внезапно подошли два очень красивых, как с лубочной картинки, чеченских парня, по — видимому, знакомых Вано. Они перекинулись с ним несколькими фразами на чеченском языке, дали ему закурить и внимательно посмотрев на нас с Сергеем, гордо удалились. «А ну-ка пойдем со мной,— сказал Вано Сергею и потащил его в закуток возле здания райисполкома, используемого, по-видимому, в качестве дровяного склада. Он завел Новикова за небольшой заборчик, через узкую щель в котором я мог видеть происходящее там. «Надо зайти туда и ударить чеченца кирпичом по голове», — лихорадочно стучало у меня в голове и бросило в пот от одной мысли, что, возможно, придется убить человека. Рядом, на клумбе, призывно лежал увесистый кирпич. Ноги стали ватными, я опустился на землю и почувствовал, что не только не в состоянии кого-то ударить, но и просто сделать шаг.
Внезапно я увидел, как чеченец принялся душить Сергея. Надо было действовать. Какая-то неведомая сила подхватила меня и понесла к остановке, на которой стояло довольно много людей — взрослых мужчин и женщин. «Помогите! — закричал я.— Там чеченец бьет моего друга!» Мужчины на остановке испуганно переглянулись. «Понимаешь, нам некогда. Мы опаздываем на работу!» — наконец виновато произнес один из них, русский мужчина (русские в Старом городе в то время были абсолютно «задроченным» чеченцами национальным меньшинством) лет 40-45. Тогда я побежал в сторону пивной, располагавшейся рядом с остановкой. За одним из столиков я увидел двух мужчин, явно «измученных нарзаном», с кружками пива в руках. «Помогите, пожалуйста, там чеченец бьет моего друга, такого же маленького, как я!» — попросил я одного из коренастых русских мужчин за столиком. «Петя, не ввязывайся!» — сказал долговязый собутыльник коренастому. Тот немного подумал и коротко бросил мне: «Показывай, где это!» Мы прошли за забор райисполкома; долговязый, что-то недовольно бурча себе под нос, увязался за нами. Как только мы зашли за забор, чеченец, как дикая пантера, выпрыгнул из закутка и, бешено вращая бельмами, завопил на коренастого мужчину: «Что тэбэ надо? Я — чэчэн, я здэс живу!» «Возьмите хотя бы кирпич», — сказал я Петру, а тот только удивленно посмотрел на меня. «Не надо, ни к чему! Это тебя он обижал?» — спросил он Сергея, который с мертвенно бледным лицом, на ходу застегивая джинсы, вышел из закутка. Тот только молча кивнул в ответ и прошептал мне: «Серега, бежим отсюда!» Мы побежали так, как будто за нами неслась Смерть с косой и со всей своей придворной свитой. На наше счастье, к остановке подъехал автобус до Караганды, мы запрыгнули в него и, уже отъезжая, с ужасом увидели, как к остановке несется Вано, злобно высматривая нас среди пассажиров автобуса. Всю дорогу до Караганды мы молчали — Сережа явно находился в шоке. Было хорошо видно, что это — первое самое сильное потрясение в его еще недолгой жизни.
По приезду в Караганду я, конечно, обо всем рассказал отцу, который был просто взбешен услышанным: «Надо обязательно найти эту гниду!» Через выпускников Карагандинской школы МВД, работающих в уголовном розыске, он пробил картотеку судимых чеченцев Старого города, тем более, что я дал довольно хорошее описание внешности и особых примет Вано. Его поимка — это был всего лишь вопрос времени. Однако вскоре после этого к нам домой пришла мама Сергея Тамара Семеновна, которая попросила отца «спустить дело на тормоза», так как у Сережи — больное сердце, он до сих пор находится в жуткой депрессии и судебное разбирательство его окончательно добьет. Как не убеждал отец Тамару Семеновну, что такие вещи нельзя оставлять безнаказанными, она осталась непреклонной.
После этого события мой рейтинг среди мальчишек невероятно подрос. Утром следующего дня я вышел во двор, где на скамейке, как наседки на жердочке, сидели наши дворовые ребята и Сережа Новиков. «Вот он, наш герой!» — закричал Боря Морозов, и ребята с явным уважением посмотрели в мою сторону. Кстати, о ком — о ком, а вот о Боре, безусловно, следует рассказать поподробнее.
Боря Морозов был вообще выдающейся личностью в нашем дворе. Маятник моих мальчишеских симпатий постоянно качался от Новикова к Морозову и наоборот. Сказать, что Боря был всегда обаятельной и во всех случаях привлекательной личностью, конечно, нельзя, но то, что, он был парнем харизматичным — этого никак нельзя отрицать.
Во-первых, он был старше нас с Новиковым на два года, что, конечно, нас, салаг, подкупало. Во — вторых, он был очень начитанным, любознательным человеком, что значительно поднимало его в наших глазах, особенно учитывая Борино пролетарское происхождение. И потом, с ним всегда были связаны такие смешные курьезы, что Боре прощалось очень многое — и его невероятная жадность, и природная трусость, и маленький рост, который в десятом классе делал его похожим на восьмиклассника. Один из таких курьезов особенно врезался в память. У Бори был старший брат Валера-законченный пьяница, алкогольные приключения которого являлись предметом многочисленных анекдотов нашего двора. Особенно смешной была Борина интерпретация анекдотических событий этой весьма занимательной семейной хроники. «Однажды ночью я проснулся от странного ощущения,— рассказывал нам Боря очередную историю похождения своего «легендарного» братца, — почудилось, что кто — то стоит надо мной. Я всмотрелся в темноту и увидел … половой член прямо перед лицом. Пригляделся — а это как всегда пьяный брат Валерка. «Ты что делаешь, козел?» — закричал я. «Молчи, сука», — произнес брат и больно ударил меня кулаком в челюсть. Я разозлился и … (здесь мы все замерли в ожидании активных боевых действий от Бори) повернулся на бок и уснул! А этот засранец ночью все-таки меня обоссал!» Тут мы уже все не выдержали — двор разразился гомерическим хохотом, который долго не смолкал и раскатистым эхом разносился аж до самого Ботанического сада.
В одно время мы сблизились с харизматичным Борей Морозовым даже больше, чем с Сергеем Новиковым. Причиной этого стало наше новое увлечение астрономией. Надо сказать, что к 1980 году в стране началось повальное увлечение уфологией, а наша близость к Байконуру и происходящие частые случаи контакта с НЛО, видимо, в интересной для инопланетян зоне, постоянно подогревало мальчишеский интерес к проблеме «летающих тарелок». В немалой степени нашему интересу к астрономии способствовало и увлечение моего отца работами известного тогда советского уфолога, академика Ажажи Владимира Михайловича, который периодически шокировал общественность того времени своими сенсационными заявлениями о внеземных цивилизациях и их постоянных посещениях Земли. Именно тогда папа сконструировал мой первый телескоп, найдя инструкцию по его изготовлению в популярном журнале «Техника молодежи». На балконе нашего дома (а мы жили на последнем пятом этаже) я оборудовал самую «настоящую» обсерваторию, перекрыв балкон одеялом и закрепив его с помощью прищепок, с амбразурой для телескопа, картой звездного неба, тетрадкой для записи астрономических наблюдений, компасом и фонариком. В общем, всем необходимым, что полагается настоящему «звездочету» по его космической должности.
Все вечера напролет мы проводили с Борей на улице, вглядываюсь в звездную Бездну и стремясь рассмотреть там признаки жизни. Боря тоже сделал телескоп, который по качеству изготовления значительно уступал моему, но зато он, в отличие от меня, уже прошел школьный курс астрономии, поэтому более обстоятельно подходил к изучению карты звездного неба.
Однажды Фортуна улыбнулась нам и мы увидели более чем странное явление, от которого, помню, тогда мурашки пошли по спине. Осенним вечером, вооружившись телескопами, мы, как всегда, обосновались во дворе, вызывая насмешки ребят, которые, по-видимому, завидовали нашей увлеченности и всячески стремились нас унизить вместе с Ее Величеством Астрономией. Среди ребят был известный хоккеист карагандинской команды «Автомобилист» мой одноклассник Миша Петров и Сергей Новиков — неисправимый скептик, по сравнению с которым Фома Неверующий просто «отдыхает». Боря читал нам пространную лекцию про Созвездие Ориона, показывая его на небе, как заправский лектор планетария. Внезапно по небу, прямо у нас над головами, по-видимому на очень большой высоте, пронесся странный объект, похожий на бумеранг. Две яркие светящиеся точки, расположенные друг от друга на расстоянии примерно 40 см (понятно, что реальные габариты объекта на такой высоте оценить невозможно), были соединены прозрачными сферами, через которые были видны небо и искры многочисленных звезд. Объект пролетел совершенно беззвучно, стремительно, но достаточно медленно, чтобы его можно было все-таки хорошо разглядеть. Первыми его увидели натренированным взглядом астрономов я и Борис. Мы только успели воскликнуть от неожиданности и изумления, лихорадочно вглядываясь в ночное небо, надеясь еще раз увидеть странного незнакомца. Спустя минут 15 объект опять появился в небе, как фантастическая птица, бесшумно паря над землей. На этот раз его увидел Миша Петров, который после, также как и мы, уже не мог оторвать зачарованного взгляда от звездного неба. Раздосадованный Новиков, которому опять ничего не удалось разглядеть, стал подчеркнуто демонстративно насмехаться над нами, настоятельно рекомендуя обратиться в клинику имени Кащенко. Однако точно через такой же интервал времени объект вновь пролетел над нами, причем на этот раз его увидели все ребята, кроме... Сергея Новикова. Досада его при этом уже не знала предела — в конце концов он откровенно «расплевался» с нами и гордо удалился домой, сказав, что ему жалко терять время с такими законченными мудаками, как мы.
Как у большинства телескопов рефракторного (линзового) типа, у наших был существенный конструктивный недостаток — перевернутое изображение, делавшее их не очень удобными при наблюдениях, особенно не связанных с астрономией. То, что наши телескопы можно использовать не по прямому назначению и куда более «интересно», нам подсказал находчивый Сергей Новиков. Понятно, какой «интерес» может быть у прыщеватого, «озабоченного» подростка, «истекающего половой истомою» — подсматривать за голыми женщинами в окнах соседних пятиэтажек. В общем, идея Новикова, конечно, не отличалась особой новизной и оригинальностью, тем не менее, этот посыл от Лукавого нашел отклик в наших неокрепших детских душах.
Наблюдательный пункт юные «папарацци» оборудовали на остроконечной крыше двухэтажки Сергея. Это была очень опасная крыша, с довольно внушительным углом наклона, так что в скользких туфлях, особенно в дождливую погоду, там делать было нечего. Рабочая обувь «охотников до клубнички» — кеды советского производства, в которых еще можно было чувствовать себя более -менее уверенно на этой экстремальной шиферной крыше. Мы проводили долгие часы в нашем логове в ожидании подходящих сюжетов-ню. Если длительное ожидание вознаграждалось таким «веселым» сюжетом, хотя бы с обнаженной грудью, это на целую неделю становилось предметом шумного обсуждения во дворе, а «счастливчик» — вуайерист, хоть и на короткое время, становился объектом неприкрытой мальчишеской зависти. Наше общество юных эротоманов теперь пополнилось Сережей Новиковым и Мишей Петровым, с которыми мы уже ходили на крышу, как на работу, т. е. с завидным постоянством. Вскоре и нашей крыши нам стало мало. Мы стали осваивать покатую крышу моей пятиэтажки. Доходило до курьезов, граничащих со смертельным риском.
В один из летних вечеров Миша Петров, вооружившись моим телескопом, подсмотрел подходящий сюжет с обнаженкой — зрелая привлекательная особа на четвертом этаже соседнего здания готовилась к очередному пляжному сезону, «обкатывая» перед зеркалом коллекцию советских незатейливых купальников. Если с грудью у нее все было в порядке, то все, что было ниже пояса, к большому разочарованию Мишы, было скрыто наружной стеной дома на уровне подоконника. Увлекшись этим «фантастическим» зрелищем, Мишаня по-пластунски пополз вперед, и, не рассчитав, вместе с телескопом стал медленно, но верно сползать с козырька карниза. «Держите меня за ноги!» — только и успел он крикнуть нам, и мы с Морозовым, что есть силы, схватили его за ноги и потащили на себя. «Какой сегодня чудесный вечер!» — восторженно произнесла внизу, прямо под нами, моя мама, которая вышла на балкон подышать полной грудью упругим июльским воздухом и к, счастью, не услышала нашей шумной возни на крыше. Мишаня покраснел, как рак, и сильно вспотел, пот ручьями струился по его лицу и шее — было очевидно, что он пережил не лучшие секунды своей жизни. После этого неприятного происшествия мы больше не изменяли нашей, ставшей родной, крыше дома Новиковых, которая к тому же стала еще и спасительницей для меня в самом прямом смысле этого слова. А дело было так.
Как-то раз, отдыхая от изрядно поднадоевших эротических сеансов, мы с Морозовым, вооружившись телескопами, с любопытством разглядывали полную луну. Мимо продефилировал долговязый парень с овчаркой — как я узнал позже, это был Вова Пашко из параллельного 9 — «в» класса. Не знаю зачем, я громко мяукнул, вызвав нервический лай его собаки. «Сейчас как мяукну, козел, лаять научишься!» — пробурчал с тихой угрозой Пашко и пошел дальше. На том инцидент и был бы исчерпан, но черт дернул Морозова ляпнуть: «На твоем месте я бы догнал и дал в морду!» Недолго думая, я так и сделал. «А ну — ка стой, падла!» — догнал я Пашко. Тот с наглой улыбкой остановился, удобно, как специально для удара повернув свою противную, прыщеватую физиономию ко мне, а я серьезно и очень деловито провел красивый, поставленный «хук» слева ему в челюсть. Он опешил, схватился за щеку, а потом панически побежал вместе с испуганной овчаркой, на ходу выкрикивая: «Ну все, сейчас тебя убивать будем, гад!» Прошло совсем немного времени, когда я услышал шум приближающейся толпы, не предвещавшей для меня абсолютно ничего хорошего. Впереди шли рослые парни, держа в руках шахтерские фонарики. «Я бы на твоем месте бежал», — невозмутимо сказал Морозов, сидя на деревянном столе для домино. «Бежим со мной»,— сказал я. «А зачем? Я же ничего не делал». «Ну как знаешь!» — уже на ходу бросил я и помчался что есть силы к подъезду, где располагался наш любимый чердачный люк. Проворнее обезьяны я прыгнул на лестницу и быстро поднялся на чердак.
Через амбразуру чердачного люка мне было хорошо видно, как в подъезд, следом за мной, забежал Вова Пашко, держа в руках велосипедную цепь. Он хотел было в горячке подняться по лестнице на чердак, но увидев мою занесенную над ним руку с кирпичом, передумал и выбежал из подъезда. «Пацаны, кто со мной полезет на крышу?» — услышал я его дрожащий голос, и, не став дожидаться возможных волонтеров, полез на крышу. Расчет при этом был прост — на крыше я себя чувствовал, как Бог или почти как Бог. Даже если бы ребятки вдруг полезли на крышу, я бы успешно атаковал их булыжниками, имевшимися здесь в изобилии, а в случае неблагоприятного развития событий еще всегда оставался резервный путь отступления на крышу соседней двуэхэтажки. И потом, на чердаке было столько потайных укромных уголков, чтобы схорониться, что, даже имея шахтерские фонарики, неприятелю понадобилось бы очень много времени, чтобы отыскать меня. В данном случае время работало на меня.
Как и следовало ожидать, желающих подняться на крышу не нашлось, поэтому я спокойно отсиделся на крыше, чутко прислушиваясь к происходящему внизу, а когда шум там затих, осторожно спустился по лестнице и вышел из подъезда. Передо мной предстала удручающая картина. Боря Морозов с побитой физиономией стоял посредине дворовых ребят, в числе которых был Сережа Новиков (он вышел из дома аккурат к финалу этой трагикомедии) и Миша Петров. Сильно жестикулируя руками, Боря с жаром рассказывал ребятам, как из-за придурка Воронина его избила банда Егора. Имя Егора, этнического немца с патологическими уголовными пристрастиями, вызывала ужас у всей 47-й школы. Это был дородный маргинал из семьи уголовников с ростом в 190 см, который уже в десятом классе выглядел как 25-летний мужчина. Рассказывали, что Егор с 15-ти лет сожительствовал с 30-летней женщиной, имеющей на руках ребенка, а в школе у него в любовницах ходила рослая девица Таня из параллельного класса по кличке «Бэби». Эта Бэби была самая настоящая бандитка, которую боялись не только девчонки, но и даже парни. Я был свидетелем того, как Таня мощным ударом ногой в пах вырубила крепкого парня — хоккеиста по прозвищу «Фатима». В «подмастерьях» у Егора ходил крупный татарин из 10 — «Б» класса Альберт Гильманов. Именно он «накостылял» за меня Боре Морозову. В общем, по моей скромной персоне собрался весь местный «бомонд» из соседнего криминального двора, что меня, конечно, не могло не «радовать». «Завтра тебе в школе будет «карачун»!» — злорадно прошипел Морозов.— Они сказали, что в школе тебя достанут, там ты от них никуда не денешься». Я только промолчал в ответ, так как перспектива быть избитым, если не убитым, в школе была и так очевидной. «Не надо слов, господа присяжные заседатели!» — угрюмо подумал я и поплелся домой. Мое удрученное состояние не могло остаться незамеченным для родителей. «Что случилось?»— спросил отец и нахмурился, когда я поведал ему свою печальную историю. «Значит так, завтра, когда к тебе подойдет Пашко, а он к тебе обязательно подойдет между уроками, чтобы насладиться твоим страхом, ты ему скажешь: «Если что-то со мной случится, мой отец, подполковник милиции, пришлет в школу взвод курсантов МВД и тогда поговорим со всей вашей честной компанией по-другому!» Это был блестящий ход моего отца. От себя я добавил небольшую импровизацию, подсмотренную в популярном тогда фильме «Петровка -38». Там инспектор уголовного розыска сказал ключевую фразу, которая мне очень понравилась, «горячему» кавказскому мужчине, который необоснованно приревновал его к своей спутнице: «Уважаемый, если вас удовлетворят мои извинения за причиненную обиду, то я их приношу». На следующее утро все произошло так, как и предсказывал папа. В перерыве между уроками ко мне подошел Вован и прошипел как змея: «Ну все, готовься, хмырь, после уроков тебе будет каюк!» Я в точности передал ему заученные слова отца, добавив от себя понравившеюся фразу. И — о чудо! Когда я ее произнес, в глазах Вовы Пашко появились слезы. Он молча подал мне руку, я с чувством пожал ее и мы, очень довольные собой, гордо разошлись. Потом, уже после уроков, я заметил, как Пашко подошел к Егору и передал ему мои слова. Тот с явным уважением взглянул на меня, и на том инцидент был исчерпан — для меня, но только не для Бори Морозова! Поскольку он уже закончил учебу в школе, друзья Пашко взялись отлавливать и колотить его возле дома во дворе, в Ботаническом саду, по дороге в магазин. Дошло до того, что он старался гулять на улице либо ночью, либо в сопровождении родителей, и это продолжалось до самого его призыва в армию. Так я получил свой первый урок того, как сурово, но справедливо наказывает Судьба провокаторов и подстрекателей.
Обитатели славного дома, на крыше которого происходили эти замечательные события моего детства, заслуживают особого внимания в нашем повествовании. На втором этаже, как мы уже знаем, жила семья Новиковых, которая впятером ютилась в двухкомнатной квартире старого типа, так называемой «малолитражке». Пятым членом семьи была престарелая, очень симпатичная и опрятная бабушка Сережи из Целинограда (нынешняя Астана) — по-видимому, мать Евгения Егоровича. Обстановка в квартире была настолько стесненной, что Сереже приходилось спать на кресле-кровати, которое он по очереди делил со своей сестрой Наташей. Справа от Новиковых проживал известный в округе «растоман» (авт. -наркоман, употребляющий растения каннабисной группы) с внушительным стажем Сабир Тулеубаев. Этот молодой казах, плохо знающий русский язык, с «нежного» возраста вовсю потреблял чуйскую коноплю, произрастающую в горных районах Киргизии (не следует путать с Чуйской долиной Горного Алтая). Как обычно, с утра нигде не работающий Сабир занимал излюбленную наблюдательную позицию на балконе своего дома, тухлым от хронической «ломки» взглядом обитателя китайских опиумных заведений всматриваясь в лица прохожих. «Жолдас, тенге бар?» («Друг, деньги есть»?) — спросил он, увидев меня. «Тенге жок» («Денег нет») — отвечал я, исчерпав при этом весь свой запас казахских слов. «Кет, бала!» («Пошел вон, мальчик!» — казахский аналог русского посыла на три буквы) — зло бросил Сабир и, схватив лежащий рядом колун, принялся рубить мебельный хлам, хранящийся на балконе, видимо, как — раз для этих целей. Двор давно привык к этим психопатическим концертам Сабира и уже ничему не удивлялся.
Слева от Новикова проживала семья Поляковых. Сережа Поляков по прозвищу «Пулик» с параллельного 9 — «Б» относился к той категории людей, которых выдающийся русский психиатр Петр Борисович Ганнушкин называл «конституционально глупыми». То есть нельзя сказать, что он был дебилом или умственно неполноценным в прямом смысле этого слова, но его суждения отличались такой инфантильностью, что, казалось, в мозгу у него стоит некий блокиратор, не позволяющий ему подняться над своими простейшими физиологическими потребностями типа «жрать» и всем, что успешно рифмуется с этим словом. При этом Сережа был настолько тощим, что на его фоне я, сам редкостный доходяга, чувствовал себе Арнольдом Шварценеггером. По-видимому, речь в данном «клиническом» случае уже шла о дистрофии, но Сережу Полякова это совершенно не заботило и не удручало, и он всегда находился в ровном жизнерадостном состоянии духа, чем вызывал у меня неподдельную зависть.
Слева от Пулика проживала семья таксиста Колымбергера по прозвищу «Барыга». Барыга обладал внешностью классического, очень неопрятного еврея — толстый, с огромным, как арбуз, животом; с короткими кривыми ногами, заросшими шерстью; с напрочь отсутствующей шеей. При этом, на зависть всему двору, это огородное пугало было женато на очень симпатичной татарочке, которая родила этому Шреку дочь Олю — настоящую восточную красавицу. Удивительно, как порой причудливо сплетаются такие разные гены, образуя в союзе великолепный нежный узор, полный очарования и гармонии. Если с внешностью у Оли все было в порядке, то об ее характере этого совсем нельзя сказать. Это была взбалмошная, избалованная отцом юная особа, которая позволяла себе такие вещи, которые не позволяла себе ни одна девочка нашего двора. Как-то во время совместной игры я поссорился с Олей, и она, ни с того, ни с сего больно ударила меня ногой в пах. Я даже ничего не успел сообразить, как моя рука сама залепила ей такую пощечину, что она свалилась на землю и даже проехала еще некоторое расстояние задом по траве. Она посмотрела на меня глазами, полными слез, но ... еще и с явным уважением. С грустью недавно я узнал, что Оля умерла, не дожив до 18 лет, от криминального аборта и вызванного им общего заражения крови. А виновником трагедии оказался «счастливый отец» (кто бы мог подумать?!) — ее сосед – «мозгляк» Сережа Поляков.
Летом Барыга, когда у него было хорошее настроение, устраивал нам во дворе импровизированные дискотеки. Он выставлял на балкон 100 -ваттные колонки, включал дорогущий по тем временам проигрыватель «Арктур» с алмазной, как тогда говорили, «вечной головкой» и заводил добытые у спекулянтов фирменные виниловые пластинки группы «АВВА» и «Boney M». Именно на почве зарубежной эстрадной музыки Барыга сдружился с Витей Злобиным («Катипупой»), проживающим с мамой на первом этаже, прямо под Колымбергером. Катипупа (то есть «Пуп тети Кати — мамы Вити Злобина), названный так с легкой руки Новикова, который всегда был большим придумщиком дворовых «погонял», представлял из себя коренастого, брутального парнишку с замашками заправского кулака, но менталитетом люмпен — пролетария. Дело в том, что Витя был ленив до безобразия (что в дальнейшем очень сильно подпортило ему жизнь), а тетя Катя, как слабая и неуверенная в себе мать — одиночка, в конце концов махнула на него рукой, отказавшись от воспитания великовозрастного бездельника, чем окончательно избаловала Катипупу. После восьмого класса Витя Злобин поступил в горный техникум, где преподавал физику и горное дело отец Новикова Евгений Егорович.
Как-то летом, после учебы Катипупа поехал на полуостров Мангышлак, расположенный на восточном побережье Каспийского моря в Казахстане, где целый месяц проходил производственную практику на буровой вышке. Вернулся он оттуда матерым, «забуревшим» мужиком — нефтяником, в «полной» мере познавшим женщин и Жизнь. Дело в том, что там, на буровой, в компании голодных мужиков работали поварами всего две девушки — невзрачные девицы, с явным комплексом неполноценности и инфантильными представлениями о Жизни. Однажды этих девиц мужички крепко подпоили на одной из импровизированных гулянок, и весь коллектив буровой, воспользовавшись их беспомощным состоянием, пропустил девушек «сквозь строй» — что называется, «взяли на хор». Витя рассказывал это с таким упоением и блеском в глазах, что было видно, как это событие «группен – секса» изменило его все существующие представления о мире. Но больше всего меня тогда поразило в рассказе Катипупы то, что на утро девушки-повара подверглись такой обструкции и унижению со стороны похотливых самцов, что были вынуждены уволиться и уехать от стыда и позора, куда глаза глядят.
Во втором подъезде нашего знаменитого дома жили личности еще более харизматичные и уникальные во всех смыслах. На первом этаже справа жил вечный холостяк — фотограф лет 40 по прозвищу «Доцент», в своих старомодных очках с толстой оправой, действительно, похожий на ученого или преподавателя классического университета. Доцент промышлял порнографией, которую изготавливал и сам же распространял в виде игральных карт по казахстанским тюрьмам и исправительным учреждениям. Доцент имел постоянную клиентуру из местных путан, не брезгуя малолетками, которых приводили на «фотосессию» взрослые проститутки. Понятно, что все, происходящее в «нехорошей» квартире Доцента, будоражило наше детское воображение, вызывая жгучее любопытство и непреодолимый физиологический интерес. К нашему большому разочарованию, внимание милиции и «папарацци» Доценту было ни к чему, и он всегда так тщательно занавешивал окна своей квартиры простыней, что кроме света софитов, пробивающегося сквозь застиранную простынь, ничего никогда не было видно.
Однажды осенью мы, как обычно, сидели на скамейке и чирикали, как стая воробьев, когда в нашем дворе появилась очередная «сладкая» парочка, направляющаяся к Доценту. Это была казашка Роза, которая вела за руку, по-видимому на фотопробы, очаровательную русскую девочку лет 14. Роза, похожая лицом и фигурой на певицу Машу Распутину, всегда считала себя, в отличие от своих коллег по «цеху», «воспитанной» путаной, принимающей клиентов, в основном женатых мужчин, у себя в однокомнатной квартире на втором этаже, расположенной прямо над логовом Доцента. Иногда Роза, чтобы пополнить свой бюджет, подрабатывала и у самого Доцента, одновременно поставляя ему новую клиентуру для фотосъемок. Катипупа, желая произвести на нас впечатление своей брутальностью, бросился наперерез девицам. «Роза, возьми меня на съемки, я с удовольствием присунул бы вам обеим!» — очень сладострастно, с большим чувством и придыханием произнес Витек. «Ты вначале подрасти, пидор малолетний! А то «сувалка» еще не выросла»,— парировала Роза под наш всеобщий смех. Катипупа покраснел, как рак, не ожидая подобной дерзости, и поспешно ретировался от бойких девушек.
Рядом с Доцентом, на первом этаже в однокомнатной квартире жила прабабушка Розы — выжившая из ума старуха 92 лет с явным комплексом Плюшкина. Одержимая идеей обеспечить приданым свою дорогую правнучку Розу, старая казашка опустошала местные помойки, притаскивая их «драгоценное» содержимое в свою квартиру, которую она превратила в настоящую «пещеру Али-Бабы». При этом старушка, совершающая с завидным постоянством свои челночные туры по местным помойкам, была так уморительна, что я не мог удержаться от соблазна пошутить над ней. Издалека завидев ее, я вставал на краю балкона и, сложив ладони наподобие рупора, с пятого этажа громогласно вопил: «Апа, Аллах акбар!» («Бабушка, Аллах Велик!») Бабка замирала, смешно вздевала руки к небу и пропевала скрипучим старушечьим голосом, как мулла на минарете: «Аллах акбар!» Я вновь кричал: «Аллах акбар!», старушка тут же вторила мне, и так продолжалось до бесконечности. В конце концов бабка забывала о цели своего вояжа, а я уже не мог удержаться от гомерического хохота на балконе, держась за живот и опустившись от удушающего смеха на корточки. Когда бабушка, наконец, к облегчению соседей отдала Богу душу, местному ЖКО понадобилось восемь грузовиков, чтобы вывести все ее «сокровище» на городскую свалку. Остается только гадать, где умудрялась жить, есть и спать эта очаровательная бабулька!
И еще об одном персонаже нашей повести следует сказать несколько слов: это — Саша Ткаченко по прозвищу «Бандера». У читателя, возможно, возник закономерный вопрос: а было ли прозвище в детстве у автора этих строк? Ответственно заявляю: да, было «погоняло» «Граф» (очевидно, по аналогии с графом Воронцовым), которое совершенно вытеснило надоевшую мне с детства «Ворону». Я очень гордился этим прозвищем и старался вести себя во дворе так, как подобает подлинному носителю графского титула. Бандера был уроженцем Западной Украины (отсюда его «погоняло») и проживал со своей мамой на втором этаже рядом с уже известной нам Розой. Характер у Саши был прескверный — злопамятный, агрессивный и корыстолюбивый. Именно это корыстолюбие привело Бандеру в 1982 в дисциплинарный батальон — во время службы в Афганистане он умудрился продать гранаты афганским моджахедам. В свободное от учебы время Ткаченко учил языки: казахский и украинский, — по-видимому, всерьез намереваясь стать «полиглотом». «Знаешь, как будет по — казахски «Соловей — разбойник»?» — приставал он ко мне. «Нет!» «Бабу — басмач! А знаешь как будет Красная Шапочка по-украински? Червона Капуняшка! А сексуальный маньяк? Злыдень писукатый!» — и Бандера заливался радостным визгливым смехом, обнажая коричневые от никотина крупные лошадиные зубы. Играть с Бандерой в наши дворовые игры — в основном, «чехарду» и «козла» — было всегда очень рискованным занятием. Саша Ткаченко был непредсказуем и до крайности обидчив, причем обида иногда возникала на ровном месте, но за ней незамедлительно шла беспощадная месть Бандеры. На моей памяти, во время игры в «козла» Пулик нечаянно задел Ткаченко, слегка испачкав ботинком ему штаны. Ответ Бандеры не заставил себя ждать — когда Пулик в порядке очередности встал «козлом» в известную позицию, Ткаченко разогнался и со всей дури пихнул коленом Полякова в зад, т. е., что называется, «запорол козла». Пулик успел только охнуть, ушел в «бреющий» полет, пробороздив лицом асфальт. При этом он так сильно разбил себе нос и губы, что больше мы его в этой игре не видели. Я только с удивлением успел заметить, как на лице Бандеры в это время застыла блаженная улыбка садиста.
Игра в «чехарду» в нашем дворе всегда была экстремальным занятием, но «экстримом» на грани «фола» она становилась тогда, когда в игру включался Вова Садовский — 120-ти килограммовый верзила, ростом под два метра, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. Господи, как же везло тем, у кого в команде был Вова, и как же крупно не повезло тому, против кого играла команда Садовского. Мало того, что выдержать «живой» вес Вовика практически никому не удавалось, но горе было особенно тому, кто попадал под пушечный удар мячом Садовского. По правилам игры проигравшая команда становилась в ворота, и Вова начинал методично пробивать «сало», т. е. расстреливать несчастные жертвы футбольным мячом. В случае удачного попадания на теле жертвы образовывался багровый след, как от ожога кипятком, а затем огромная гематома. Я помню, как Миша Петров, привыкший, в общем-то, к боли и травмам хоккеист, после очередного такого попадания мяча Вовы Садовского в область поясницы упал на землю и зарыдал! Именно тогда и произошло событие эзотерической природы, которое особенно врезалось в мою детскую память и о котором я хочу рассказать.
Как-то раз, апрельским вечером мы, разделившись на две команды, как обычно, стали играть в «чехарду». Все шло нормально до того момента, пока на школьном дворе не появился Вова Садовский и попросился в игру. Бросили жребий, и Садовский, к нашему большому ужасу, оказался в команде противника. Нам выпало стоять «конем». Тактика «чехарды» очень проста и хорошо известна — надо найти и прыгнуть в самое слабое звено «коня». Понятно, что таким слабым звеном являлся я — как иногда называла меня мама, «комар на тонких ножках». В такой ситуации победа команде Вовы Садовского была обеспечена. Я стоял посередине, впереди меня стоял Сережа Новиков, сзади — Катипупа. Первым на нас прыгнул Боря Морозов. Он благополучно приземлился на Новикова, так что его вес мы даже не почувствовали. Пришла пора прыгать Садовскому. Он разбежался, шумно дыша и тяжело, как носорог, топая своими ножищами (казалось, что земля тряслась и ходила ходуном под его весом), громко хрюкнул как боров и прыгнул в аккурат прямо на меня. Мне показалось, что на спину упал бульдозер, кости мои затрещали, но что странно — ноги, немного согнувшись в коленях, все же выдержали невероятный для меня вес. Дополняя эту «картину маслом» и, видимо, желая добить меня, сверху Вовы Садовского взгромоздился Саша Ткаченко. Таким образом, весь этот умопомрачительный вес пришелся на мою бедную костлявую спину. «Граф, держись!» — завопил Катипупа, и, что удивительно, в определенный момент я, действительно, перестал ощущать эту неподъемную тяжесть. Кровь горячей волной прилила к голове и шумно стучала в моих висках, как — будто желая пробить височную кость. Но теперь всей этой громоздкой конструкции предстояло пройти двадцать долгих, бесконечных шагов до футбольных ворот. «Конь» медленно, но верно двинулся в свой последний, трагический путь. Всю дорогу, пока мы шли «конем», перед моими глазами стоял образ некоего безбородого мужчины около 40 лет в белом хитоне, сидящего в какой-то белой комнате. Да, я забыл сказать, что этот образ преследует меня с самого раннего детства и появлялся всегда, когда мне было плохо (например, во время пневмонии) или когда грозила какая -то реальная опасность. Уже много лет спустя я узнал в этом мужчине третьего Ангела с удивительной и самой загадочной в Истории мирового искусства иконы Андрея Рублева «Пресвятая Троица» (см. фото 1). Тогда, в далеком детстве, я не придал этому факту особого значения и быстро забыл о нем. И все-таки мы дошли до конца, победив наших более чем достойных соперников. Вова Садовский с явным недоумением смотрел на меня, до конца не понимая произошедшего. «Воронин, ты сейчас поставил мировой рекорд по тяжелой атлетике, если брать в расчет твой «заячий» вес!» — пробормотал он. «Ну ты, Граф, даешь!» — с восхищением произнес Сережа Новиков, а Катипупа с большим пиететом протянул мне свою влажную руку. Это было первое серьезное признание моих заслуг самца в этом суровом мужском мире. Однако, титаническая «борьба с гравитацией» не прошла для меня даром — я заработал варикозное расширение вен в паху, которое изредка напоминает мне о былых победах и которое я теперь «гордо» несу по жизни.
На следующее утро, как и следовало ожидать, я заболел — по— видимому, серьезно надорвался и вдобавок простыл. Температура под 40, насморк, сухой, противный кашель, полубредовое состояние — в общем, «джентльменский» набор универсальных в таких случаях земных «радостей». В воспаленном воображении вставал уже знакомый с детства образ Ангела с иконы «Пресвятая Троица» и еще одного странного субъекта с птичьим клювом, который в руках держит Анх — древнеегипетский крест с петлей на конце. Много лет спустя я увидел эту картинку в реальном времени в красноярском краеведческом музее, который, почему-то, изначально задумывался и строился, как точная, только уменьшенная копия музея древнего Египта на площади Тахрир в Каире (см. фото 2). Оказалось, что на ней был изображен древнеегипетский Бог Ра с головой птицы, дающий с помощью Анха («ключа Нила») жизнь своему сыну — фараону. Много тысячелетий спустя символ «Анх» получит название «зеркало Венеры» и будет использоваться в генетике для обозначения женской икс — хромосомы, т. е. женского начала. Поверьте, это было не первое послание Бога Ра, адресованное исключительно моей «скромной» персоне.
Однажды в программе «Очевидное -невероятное» академик Сергей Петрович Капица рассказывал о загадочных кругах на полях, происхождение которых до сих пор науке не известно. На одном из кругов я увидел уже знакомый мне символ женского начала — «зеркало Венеры» (см. фото 3). Сверху «зеркала» была изображена сфера — символ Бога Ра, а внутри самого «зеркала» помещена пятиконечная звезда — символ Божественного Человека. Я сразу догадался, что данная композиция по смыслу в точности повторяет известную мне фреску древнего Египта — Бог Ра с помощью Анха (земной женщины) дает жизнь своему Сыну — фараону — «наместнику Бога на Земле».
И еще один, более чем странный образ во время болезни запомнился мне тогда. Весь мой мозг, охваченный жаром, заполняла, давила абсолютно черная Пустота, огромная Бездна. Она была бесконечна, но при этом совершенно не пугала меня, а притягивала каким-то особым магнетизмом, засасывая в себя, словно «Черный квадрат» Малевича. Внезапно в этой Бездне, прямо из ниоткуда появились вращающиеся песочные часы. Они, как в компьютерной графике, из маленькой точки начинали расти и превращаться в огромные сосуды, которые теперь страшным грузом, что есть силы давили на все мое детское существо, полностью заполняя воспаленное сознание своими прозрачными тяжелыми сферами. Потом все это видение так же внезапно исчезло, как появилось, и я уже, как — бы сверху, видел эти же песочные часы, только в миниатюре, которые лежали на огромной мужской ладони. Несмотря на то, что я видел эту картинку сверху, у меня возникало полное ощущение того, что эта ладонь — все-таки моя, так как сквозь горячечный бред физически ощущал на своей влажной детской ладони огромную, несоизмеримую тяжесть этих космических песочных часов, хотя они и выглядели, по сравнению с рукой, как микроскопическая песчинка. Удивительно, но спустя десятилетия я увидел и узнал эти песочные часы на фотографии, сделанной американским космическим телескопом «Хабблом» (см. фото 4). На снимке была зафиксирована потрясающая картина гибели сверхновой звезды, которую я сразу мысленно окрестил «приветом из далекого детства».
Вообще, надо сказать, состояние транса хорошо мне знакомо с самого раннего детства. Дело в том, что я страдал «лунатизмом», что только добавляло дополнительные штрихи к моему одиозному имиджу «очень странного мальчика». Мой сомнамбулизм иногда становился причиной весьма курьезных и пугающих родителей происшествий.
Однажды осенью 1980 года (это было 16 ноября — я, почему-то, хорошо запомнил эту дату) мой одноклассник и приятель Игорь Куприянов, о котором я расскажу чуть позже, дал мне всего на один день почитать уникальную книгу о космонавтике и покорении Луны. Это было шикарное, прекрасно иллюстрированное издание, где автор, человек очень сведущий, что называется «в теме», позволил себе помечтать о будущем человечества на пути освоения дальнего и ближнего Космоса. Я так увлекся чтением, что не заметил, как наступила глубокая ночь. Мама уже тихо посапывала в соседней комнате (папа в это время уже служил в Хабаровске и ожидал моего окончания карагандинской средней школы), когда я решил тоже отправиться на «боковую». То, что произошло со мной дальше, можно назвать состоянием глубокого транса или сомнамбулизмом — думаю, что вряд ли эти определения смогут в полной мере объяснить природу данного психического явления. Короче, как только я встал с кресла и выключил торшер, мое сознание отключилось. Тихий мужской голос приказал мне взять ножницы, подойти к нашему большому персидскому ковру, висящему над кроватью мамы, и вырезать из него большой кусок. Я принялся за дело, причем толстый ковер миниатюрные мамины ножницы с загнутыми концами резали легко и непринужденно. Наконец я закончил свое «черное» дело, а дальше наступил полный «провал» в памяти. Очнулся я от громкого крика мамы уже утром, сидящий на кровати с большим куском ковра в руках. Мама в ужасе смотрела на меня, ничего не понимая. Позднее она мне рассказала, что я был действительно страшен в этот момент — мои ничего невидящие глаза в розовой поволоке делали меня похожим на настоящего зомби. Ничего не говоря, мама только тихо всхлипнула, взяла цыганскую иглу и с большим трудом пришила отрезанный кусок к несчастному ковру. Только на следующий день она осмелилась спросить меня: «Ты зачем это сделал?» «Да не знаю, мама, был голос, сопротивляться не было никакой возможности!» — отвечал я. «А если этот голос в следующий раз тебе прикажет меня зарезать, а ?» — нервно спросила мама. Я ничего не ответил, так как сам находился в шоке от содеянного. Существование некоего мощного влияния на мое сознание извне, признаться, меня самого тогда сильно напугало. Хотя интуитивно я с самого детства и ощущал, что Там, Наверху, (я почему-то сразу мысленно назвал Его Ра) есть Живое, Любящее Существо, которое явно приложило руку или какую-то другую часть своего тела к моему появлению на свет; всегда защищает меня и помогает Жить! В этот раз, видимо, Оно устроило мне очередную, немножко экзотическую «проверку связи». Удивительный факт, но 16 ноября 2010 года я прочитал в Интернете сообщение американских ученых НАСА о том, что им удалось с помощью рентгеновских телескопов открыть самую молодую «черную дыру» в нашей области Вселенной (см. фото 5). При помощи этих телескопов удалось «засечь» рождение этой «черной дыры» всего через 30 лет после взрыва сверхновой звезды. Произведя нехитрые расчеты в уме, я пришел к выводу, что именно в этот день 16 ноября 30 лет назад я проделал большую «черную» дыру в нашем фамильном ковре, который до сих пор висит в детской комнате у моих дочерей и давно стал семейной «легендой».
Ну, а теперь настала пора поговорить о музыке и том месте, которое она занимала и занимает в моей жизни. С самого детства с музыкой у меня складывались, прямо скажем, непростые и очень противоречивые отношения. Моя мама, сама преподаватель в детской музыкальной школе по классу фортепиано, попыталось было отдать меня в семь лет в свою школу. С самого начала эта попытка была обречена на провал. Я с первых мгновений возненавидел школу, начальные уроки сольфеджио, которые вел бородатый молодой мужчина, от которого веяло откровенной «голубизной» и явным комплексом мужской неполноценности. Задания, которые он нам давал по нотной грамоте, оценивались по шестибальной шкале, причем ставились две оценки: одна за правильность написания нот, скрипичного ключа и знаков альтерации; другая — за «чистописание», т.е. аккуратность и изящность исполнения задания. Высшая оценка «6/6» по заведенной «голубым» традиции вознаграждалась шумными аплодисментами всей группы, состоящей, преимущественно, из девочек.
Поскольку я был переученным «левшой», мне особенно тяжело давались мелкие знаки и музыкальные символы; впрочем, также, как прописные буквы и цифры. На нотном стане у меня плясали и жили своей странной жизнью огромные уродцы в виде кривоногого скрипичного ключа; сильно покореженные, как будто с похмелья, «нотки», не помещавшиеся на двух и даже трех строчках нотного стана. Понятно, что мои стабильные оценки из-за этого совершенно справедливо варьировали в диапазоне «2-3», так что услышать аплодисменты в свой адрес мне совершенно не грозило в обозримом будущем. Зато моя завистливая натура каждый раз отчаянно бунтовала, когда мы хлопали очередной счастливой девочке, получившей заветные «6/6». Но чаша моего терпения переполнилась, когда самой высокой оценки удостоился мой извечный конкурент и сверстник Костя — сын маминой подруги Людмилы Коноваловой, работающей преподавателем в этой же школе. Я откровенно «наехал» на маму, после чего она изящным каллиграфическим почерком, при этом изо всех сил стараясь не «переборщить», изобразила за меня очередное задание учителя.
Кстати, уже будучи в Караганде, моя мама, талантливая во всем, явно перестаралась, выполняя за меня домашнее задание по рисованию за 7 класс. Она «дорисовалась» до того, что меня, не умеющего, как следует, изобразить на бумаге даже правильный круг, выдвинули на международный конкурс юных художников Азии. А теперь только на миг представьте себе, какая от меня потребовалась незаурядная изворотливость ума и находчивость в 14 лет, чтобы отбиться от участия в этом злополучном конкурсе, а потом еще целый год дурить бедную учительницу по рисованию, всерьез уверовавшую в мой выдающийся талант живописца!
Понятно, что женский почерк был слишком явным, чтобы принадлежать мне, и одна, очень правильная девочка голосом, полным возмущения, произнесла: «Это он не сам рисовал!» Учитель изучающе, с явным осуждением, посмотрел на меня и сказал: «Друзья мои, давайте похлопаем Сереже!» — но никто из класса в знак протеста, естественно, не стал хлопать. Это был довольно чувствительный удар по моему самолюбию, и я каждый раз после этого случая насиловал себя, идя на эти уроки начального сольфеджио.
Наконец, к моему огромному облегчению, две недели этой пытки закончились, и мама определила меня на уроки по специальности к самому лучшему преподавателю в Барнауле по классу «фортепиано». Но и здесь меня ждал очередной конфуз. Не знаю, может быть эта женщина и была замечательным педагогом (к сожалению, я не успел оценить это), но то, что она страдала очень сильным косоглазием — это факт, непреложный и «железобетонный», как конструкция саркофага на Чернобыльской АЭС. Для моей тонкой натуры судьба этого педагога была решена окончательно и бесповоротно на первом же уроке. Я решил симулировать болезнь. «Сережа, музыкальный лад состоит из 7 нот: до, ре, ми , фа, соль, ля, си»,— объясняла несчастная учительница, упорно глядя мимо меня куда-то вбок. «Причем здесь фасоль, чечевица и прочие бобовые?» — зло подумал я и решил заплакать. «Что с тобой, Сережа?» — всерьез испугалась учительница. «Голова болит, к маме хочу!» — захныкал я, и она в панике побежала за матерью в соседний класс. Моя эвакуация с урока прошла, что называется, «без шума и пыли», и больше я в этой школе никогда не показывался. Обескураженная учительница в течение еще целого года интересовалась у мамы, когда же я все-таки приду на следующее занятие, мама что-то невнятно объясняла ей, но время шло, потихоньку все забывалось, и вскоре я стал абсолютно свободным от противных уроков и всяческих обязательств по обучению музыке.
Только спустя десятилетия я понял, что Ра умышленно увел меня от рутины академического музыкального образования, развив природный талант импровизатора. А пока я искренне и беззаботно наслаждался музыкой, слушая виниловые пластинки на нашей старенькой «Ригонде», как пчела, насыщаясь нектаром «Итальянского каприччио» Петра Ильича Чайковского, под которого мы с бабой Сашей (престарелой мамой отца, которую он привез в Барнаул из Подмосковья) устраивали сеанс «одновременного плача». Потом душераздирающее, плаксивое «Каприччио» сменил первый советский мюзикл Геннадия Гладкова «Бременские музыканты», две пластинки которого по большому блату в 1971 году где — то раздобыл отец. Эта жизнеутверждающая музыка тогда разносилась из каждого жилого дома Барнаула, а песня бременских музыкантов «Ничего на свете лучше нету» стала самым настоящим хитом сезона.
Меня абсолютно не тяготило то обстоятельство, что при маме — педагоге я не умею играть на фортепиано, но когда бабушки — соседки ставили мне это в совершенно законный упрек, мне становилось очень стыдно; в порыве чувств я «наседал» на маму, она разворачивала ноты, и мы приступали к упражнениям и этюдам, но и здесь, дома, меня хватало максимум на один месяц, а потом я вновь на долгие годы забрасывал свои занятия музыкой. Мама никак не могла подобрать оптимальную методику моего обучения игры на фортепиано, так как я был крайне не усидчив и, к тому же, быстро уставал за инструментом. Один Ра знал, чем можно завлечь и заинтересовать мою неуемную «близняцкую» натуру (по гороскопу я — классический Близнец). «Шерше ля фам», — как говорят французы в таких случаях, что означает: «Ищите женщину!». И Ра нашел для меня такую «женщину». Ею стала черноволосая хорошенькая девочка с голубыми глазами из моего же класса Лена Митерева, удивительно похожая на мою первую любовь Лену Епифанову; к тому же, случайно это или нет, но так же, как она, обучалась в музыкальной школе по классу аккордеона.
Как писал Льюис Кэрролл в своей «Алисе в стране чудес», вокруг красивой девочки всегда происходит «большая путаница». Так было и в нашем классе. Оказалось, что у Лены Митеревой здесь было по меньшей мере 4 тайных «воздыхателя»: Игорь Куприянов, Миша Петров, Сережа Новиков, ну и я, Ваш покорный слуга! А началось все с банального мальчишеского розыгрыша. Однажды в 5 классе, в начале урока я, как обычно, полез за учебником в свой ранец, как вдруг оттуда выпала записка. Я поднял ее с пола и с удивлением прочитал: «Сережа, я тебя люблю! Давай встретимся после уроков. Лена Митерева». Краска бешенства бросилась мне в лицо — я, почему-то, сразу подумал на Вадика Макарова, хулиганистого парнишку, с которым уже целый год сидел за одной партой. У нашего классного руководителя Эльзы Григорьевны Райн была такая своеобразная тактика рассаживания учеников в классе: хулигана всегда усаживали рядом с «правильным», с ее точки зрения, мальчиком. Вадим Макаров, родом из потомственных «зека», проживал в карагандинском поселке Унша, одно название которого наводило ужас на тогдашнюю ребятню. Поселков, подобных Унша, всегда было много в СССР, как, впрочем, сейчас и в России: это и поселок Куета возле Барнаула, и поселок Чесноковка возле Новоалтайска, и многие другие «злачные» места на просторах нашей необъятной Родины. Объединяло их всех то, что в таких поселках проживали преимущественно «откинувшиеся» после отбытия срока наказания уголовники и их маргинальные семьи. По-видимому, желая для Вадика иной, чем у них, Судьбы, родители отдали его в народный цирк, работающий тогда на общественных началах во Дворце горняков. Как ни странно, Макарову очень понравилась эта учеба и работа в цирке, он стал прекрасным акробатом и всегда на школьных уроках физкультуры, по многочисленным просьбам мальчишек, удивлял нас изящными сальто и прочими акробатическими экзерсисами. Однако гены все же брали свое, и криминальные наклонности, нет да нет, время от времени проявляли себя. Вадик был «честным клептоманчиком» — не было вещицы, мимо которой он мог спокойно пройти, не прикарманив. Закономерным итогом этой «богопротивной» деятельности была постановка Макарова на учет в детской комнате милиции, чем он, впрочем, всегда очень гордился. Естественно, что тень моего подозрения сразу же пала на эту ближайшую ко мне «харизматическую» личность. В негодовании я сунул записку ему в физиономию, да еще при этом больно ударил его в плечо своим костлявым кулачком. «Воронин, ты что себе позволяешь на уроке?» — сердито закричала Эльза Григорьевна, для которой мои действия на первом ряду, конечно же, не остались незамеченными. Макаров в недоумении поднял скомканную записку, бегло прочитал ее и заржал, как конь. При этом он лукаво посмотрел на сидящую сзади Лену Митереву, кокетливо подмигнув ей — дескать, я в курсе твоей тайны. Тогда, много лет назад, в порыве гнева я даже не успел сообразить, что почерк-то в записке был отнюдь не Вадика. Но было поздно — маховик «общественного скандала» раскручивался вовсю. Записка пошла по рядам, вызывая гомерический смех у «вождей» класса — Вити Чернышева и Бори Арсеньева; ну а далее, как водится, пошла «цепная реакция» — вскоре уже весь класс был в курсе этого происшествия. Даже сейчас, спустя десятилетия, я так точно и не знаю, кто же был, все-таки, автором этой скандальной записки, но явная обида на меня Лены Митеревой и ее осуждающий взгляд, который изредка после этого я ловил на себе в течение длительного времени, все чаще заставляют меня задумываться над тем, что именно она и была этим «неизвестным» автором! В общем, я «лопухнулся» с прекрасным полом в очередной раз.
Однако, вся эта история с запиской пробудила неподдельный интерес мужской половины нашего класса к смелой девочке — «эмансипе», а для четырех юнцов стала своеобразным детонатором мощного «гормонального взрыва», который втянул их, как сказал бы известный гламурный сутенер Петя Листерман, «в последний и решительный бой за «лохматое золото». В этой «четверке отважных», как водится, сразу же наметились лидеры (Сережа Новиков) и откровенные «аутсайдеры» (Игорь Куприянов). Да и то сказать, у Игоря не было ни малейшего шанса выиграть в этой бешеной «гонке с препятствиями». Это был некрасивый, с изрытым оспой лицом юноша; как он сам выражался, сын простых «мэнэсов» (младших научных сотрудников в лаборатории металлургического комбината в Темиртау), постоянно жалующийся на бедность и житейские проблемы своей многодетной семьи. К тому же, носки Куприянова источали такое «амбре», что лишь добавляло дополнительных малоприятных штрихов к его и без того непривлекательному образу. Кстати, последнее обстоятельство сыграло роковую роль в том, что Игорь так и не смог прижиться в нашем ВИА (вокально-инструментальном ансамбле), куда он долгое время просился в качестве гитариста — мы смогли выдержать всего одну репетицию его неповторимое «амбре».
Это была поистине блистательная и одновременно авантюрная идея Сережи Новикова — создать ансамбль с людьми, практически (если не считать моих скудных навыков игры на фортепиано) не умеющими играть на музыкальных инструментах, чтобы с ансамблем выступить затем на школьном вечере, произвести фурор и покорить, наконец, сердце юной красавицы Лены Митеревой. Костяк этой музыкальной «банды», как водится, составили я (клавишные), Сережа Новиков (бас-гитара) и Миша Петров (ударные). А вот эти наши «фирменные» музыкальные инструменты, безусловно, заслуживают отдельного рассказа.
С большим трудом мне удалось «раскрутить» маму на миниатюрный клавишный инструмент «Фаэми», от которого всего за 70 рублей волшебных звуков, конечно, ждать не приходилось, но зато, когда я его ставил на табуретку под наше фамильное пианино «Petrof» и пытался со всей дури колошматить по двум клавиатурам одновременно, вид у меня был ничуть не хуже (во всяком случае, тогда мне так казалось), чем у лучшего органиста мира Джона Лорда. Сереже в «складчину» мы приобрели последний писк тогдашней моды — звукосниматель и тембро — блок для гитары. Убрав лишние струны на обычной советской «деревяшке», с помощью тембро — блока нам удалось добиться звучания почти настоящей бас — гитары. Папа Новикова — народный умелец, поколдовав с паяльником над старым автобусным громкоговорителем, по нашему пламенному заказу и на «радость» моим соседям по дому снизу «сваял» нам чудо — усилитель на 10 ватт, оборудовав его подобием микшерского пульта со входами для нескольких инструментов и звуковыми колонками. А вот с барабанами возникли непредвиденные проблемы. Оказалось, что этот, в общем-то, самый необходимый инструмент в эстрадном ансамбле, одновременно является и самым дорогим. Зайдя в магазин музыкальных инструментов, мы были шокированы ценой ударных установок «Амати» — две с половиной тысячи рублей при средней зарплате инженера того времени в 120 рублей. Понятно, что о покупке установки или даже чего — то отдаленно напоминающего ее, не могло быть и речи. Решение проблемы пришло, как всегда, неожиданно.
Как-то раз меня в коридоре на перемене поймала наш комсорг школы — некрасивая тридцатилетняя немка Изольда, которая попросила меня помочь ей убрать из пионерской комнаты всяческий ненужный хлам. Как только я переступил порог этой комнаты, то понял, что Удача сама спешила к нам в руки — оказалось, что подлежали списанию с добрый десяток пионерских барабанов, из которых вполне можно было выбрать достойные и более — менее целые экземпляры. После уроков мы с Мишей отнесли все это «сокровище» на нашу главную музыкальную базу — в мою квартиру, где затем старательно отобрали самые подходящие барабаны по тону, тембру и окраске звучания. После того, как Боря Морозов с «барского плеча» из своего гаража пожертвовал нам старую жестяную банку из-под белой эмали (правда, на одной из последних репетиций эта эксклюзивная баночка взорвалась под давлением скопившихся в ней газов, облив лицо и одежду Мишани краской, так что вид он имел весьма «бледный»), которая издавала такой дивный звук, что стала самым любимым ударным инструментом Миши в его, наверное, самой экзотической перкуссионной группе в мире, процесс комплектования ударной установки можно было считать законченным.
И, наконец, в один из осенних дней 1979 года все это великолепие грянуло во всю свою «природную» мощь, «оттянувшись» после долгого звукового «воздержания», Ниагарским водопадом внезапно обрушившись на «счастливых» жильцов моего дома (благо, отец в это время уже служил в Хабаровске, а мама работала практически ежедневно до 22 часов). Вскоре после начала этого звукового «цунами» ко мне прибежала насмерть перепуганная соседка снизу двадцатилетняя симпатичная Люся Фролова, но «старый» обольститель Сережа Новиков быстро ее очаровал и успокоил, пообещав, что пытка «музыкальной шкатулкой» будет продолжаться всего один раз в неделю и не более 4-х часов. На том и порешили, а Люсе со временем даже понравилось слушать наши репетиции. Но теперь предстояло самое ответственное дело — придумать название нашей группе. «Старый» хулиган и выдумщик Сережа Новиков предложил эпатажное, на западный манер кричащее название «Mооdis Liplis», что в переводе с тарабарского языка означало «Муди слиплись». Хорошо известно, что «как корабль назовешь, так корабль поплывет». Вплывать в Историю мировой рок-музыки «слипшимися мудями», понятно, не очень-то и хотелось, поэтому мы придумали другое, более академичное, хотя слегка припахивающее нафталином название «Пассаж» (см. фото 6 и 7). Если бы мы только знали тогда, какое будущее напророчили нашей музыкальной «банде» этим названием! Действительно, «пассаж», да еще какой, не заставил себя долго ждать.
Однажды нашему неформальному лидеру коллектива, как сказали бы сейчас, креативному директору арт-группы «Пассаж» Сереже Новикову пришла в голову гениальная идея — выступить на школьном вечере -концерте, приуроченному ко встрече выпускников 8 классов. Дело в том, что в девятом классе мы с Мишей Петровым и еще тремя мальчиками, практически, остались в «гордом» одиночестве среди девушек 9 — го класса: большинство парней ушли в ПТУ и техникумы, Новиков и Куприянов перевелись в элитную школу №3 с физико-математическим уклоном, а Лена Митерева и еще одна девочка Лариса Мигранова — в карагандинское музыкальное училище. Учителя нашей школы решили устроить встречу выпускников «а ля ностальжи», на которую планировалось пригласить музыкальный коллектив из нашей шефской организации «Автопарк №9» «Песни дальнобоя», которые Новиков, в свойственной ему ернической манере, сразу окрестил «Песнями долбо...ба». Этим обстоятельством мы и решили воспользоваться. Шефы имели отменную для того времени аппаратуру, на которой мы могли в полном блеске проявить свой «незаурядный» талант и «выдающиеся» музыкальные способности. А чтобы придать данному событию большей значимости и официоза, Сережа решил перед началом выступления обратиться с пламенной речью к нашим бывшим одноклассникам и посвятить им это «эпохальное» выступление. На совете коллектива, из нашего, прямо скажем, совсем еще небольшого репертуара, мы отобрали всего два подходящих произведения: известную песню рок-группы «Animals» «Дом восходящего Солнца», русский текст для которой написал Новиков, и инструментальную пьесу французской группы «Спэйс» из альбома 1978 года.
Вечер состоялся в пятницу 13 октября 1980 года — я на всю жизнь запомню эту «пятницу 13-го»! С самого начала все складывалось у нас далеко не лучшим образом.
Во-первых, по странной традиции в Казахстане всех мальчиков допризывного возраста в десятом классе военкомат заставлял в те годы бриться наголо. В итоге мы с Мишей Петровым со своими голыми черепами накануне этого сакрального вечера стали похожими на каких-то гуманоидов или кришнаитов, ожидающих прихода долгожданного Бога Кришны, что, конечно, совсем не добавляло привлекательности нашему, еще совсем юному музыкальному имиджу. Зато этой участи успешно избежал Сережа Новиков, так как его элитная физико-математическая школа не разрешала военкомату производить подобные экзекуции над своими дорогими питомцами.
Во-вторых, в день выступления Сережа сильно простудился, заработав ангину и совершенно потеряв голос. Он в панике с утра прибежал ко мне домой и проскрипел противным голосом: «Серега, у тебя есть эвкалипт?» Мама была еще дома и навела ему для полоскания горла раствор эвкалипта. «Ты знаешь, что у нас еще один «облом» — Миша сегодня уехал на соревнования по хоккею, — нанес мне еще один удар «ниже пояса» Сережа.— Так что мы с тобой, к тому же, остались и без ударных!» «Серж, все складывается к тому, чтобы отменить выступление», — мрачно подытожил я сложившееся положение вещей. «Вот уж хрен, все равно будем выступать, мы не можем терять такого шанса быть услышанными. Тем более, что вчера я позвонил Лене Митеревой и пригласил ее с Ларисой Миграновой на наше выступление!» Ну что же, теперь отступать было некуда. С учетом сложившейся ситуации решили играть «Спэйс», а барабанщика из шефского коллектива попросить подыграть нам на ударных.
С тяжелым сердцем, как на Голгофу, шли мы с Сержем в душный, переполненный людьми спортивный зал 47-й школы, где через несколько минут должно произойти одно из двух событий: либо на нас обрушится вселенская слава, либо нас закидают тухлыми яйцами, а то еще и дадут от чистой души по шее за самонадеянность. Увидев Лену Митереву, стоящую возле окна вместе с Ларисой Миграновой, мы подошли поздороваться, после чего Сережа торжественно объявил: «Скоро мы с Графом будем играть!» Лена с неподдельным интересом посмотрела на меня. Было очевидно нескрываемое женское любопытство, а в голубых глазах юной прелестницы читался почти профессиональный вызов: «Ну-ну, посмотрим на что вы, лабухи, способны!» «Дальнобойщики» отработали пять или шесть песен под одобрительный гул толпы, извивающейся огромной змеей в танцевальном «шейке» — предтече современного «хип-хопа», когда мы отважились, наконец, подойти к музыкантам и предложили им взять кофе-паузу, предоставив инструменты нам. Я подошел к рыжему длинноволосому барабанщику и спросил:
— Ты не мог бы нам подыграть первую композицию 1978 года группы «Спэйс», а то у нас ударник заболел!
— Да не вопрос. Конечно, смогу! Мы тоже играем эту композицию. Она у вас в ля-миноре?
— Да!
— Ну, вот и отлично! Сыграем.
Мы заняли места согласно «боевому расчету»: я, соответственно, за двухрядным немецким органом «Vermona»; Сережа — с мертвенно-бледным лицом и огромной бас-гитарой на плече за стойкой микрофона. Да, честно говоря, было отчего побледнеть. Мы первый раз в жизни видели профессиональные инструменты такого высокого класса! Если даже у меня вид органа, имеющего, в общем-то, такую же клавиатуру, как и мой любимый «Petrof», вызвал тихую панику в душе одним только видом тумблеров и регистров, то что надо говорить о Сереже, который первый раз в жизни взял в руки бас-гитару, гигантский гриф которого чуть ли не в 1,5 раза был длиннее его «деревяшки» со звукоснимателем. «Я сразу понял, что играть на ней не буду; я просто не знал, где и какие ноты надо брать по этим огромным ладам!» — рассказывал потом Новиков, но я то этого не знал и начал, как правильный музыкант, добросовестно играть вступление к пьесе, стараясь не замечать огромную толпу, в любопытстве придвинувшуюся практически вплотную ко мне и моему инструменту. Поскольку я склонил голову над органом, вид у меня был абсолютно сюрреалистический — толпа могла видеть только мой голый череп и бегающие по клавишам руки. Звук от органа был абсолютно писклявый и очень тихий, который к тому же многократно отражался от стен акустически неприспособленного спортивного зала, но я уже не мог переключать регистры, так как руки были заняты; к тому же я боялся, что в результате моих манипуляций на незнакомом инструменте картина со звуком может стать еще хуже. Заканчивался второй такт моего вступления, я выходил уже на третий круг, а обещанной звуковой поддержки «виртуозной» бас-гитары и ударника все не было. Я бросил через плечо быстрый взгляд на Новикова, тот в растерянности крутил и щелкал тумблерами бас-гитары, делая вид, что пытается сделать звук громче. Барабанщик же невозмутимо сидел за ударной установкой и, судя по его отрешенному виду, вовсе не собирался подыгрывать. «Мы так не играем!» — сквозь все более нарастающий гул толпы прокричал он мне.
В такие критические моменты моей жизни во мне, откуда — то из глубины души, кипящей лавой поднимается злость на себя и на весь мир, которая заставляет меня вдруг собраться, полностью блокирует страх, делает злым и упрямым. Как ни в чем не бывало, как — будто испытывая терпение толпы, я начал играть очень длинную и довольно монотонную основную часть «Спэйса». Через минуты две моих «пассажей» толпа начала терять терпение: «Эй, ты, лысый хер! Уе...й оттуда на х.., а то щас наваляем так, что мама не горюй!» Я, как ни в чем не бывало, продолжал невозмутимо играть, а толпа от такой неслыханной дерзости впала в какое-то странное оцепенение и внезапно притихла — думаю, вряд ли она была настолько очарована «дивными» звуками, тихо струящимися в спертом воздухе спортивного зала из-под моих влажных от волнения пальцев! Почтенная публика просто обалдела от такой беспрецедентной наглости лысого чувака! Последние такты я доиграл уже в абсолютно гробовой тишине, не предвещавшей ничего хорошего. Наконец, я закончил эту многострадальную пьесу, и мы, как во сне, спустились с Сережей с эстрады; толпа при этом молча расступилась и угрожающе пропустила нас, как сквозь строй, к выходу из зала. Когда мы проходили мимо Лены и Ларисы, я поймал их откровенно жалостливые взгляды, а ухо уловило обрывки девичьего разговора:
— А что это была за пьеса?
— Да, по-моему, что-то из репертуара «Спэйса».
Выйдя из душного зала на промозглую осеннюю улицу и испытав от этого огромное облегчение, мы с Сережей искренне порадовались тому, что не стали посвящать свое «феерическое шоу» выпускникам 8-А класса. Тогда, на школьном дворе, посреди опавшей листвы, под холодным осенним дождем два товарища горячо поклялись друг другу навсегда запомнить эту проклятую «пятницу, 13-го»! Да, нам пришлось испить эту горькую чашу поражения в полной мере, и, все же, я благодарен Ра за это первое мое «боевое крещение». Как тут не вспомнишь великого пророка Заратуштру: «Все, что не убило нас сегодня, завтра сделает сильнее!»
Однако, данное происшествие заставило нас в корне пересмотреть наше отношение к музыке.
Во-первых, мы решили полностью отказаться от публичных выступлений. Стало абсолютно ясно, что сыграть хорошо на чужих, совершенно незнакомых инструментах невозможно, а играть плохо уже не хотелось.
Во-вторых, мы решили работать на запись, чтобы зафиксировать и сохранить для себя и «благодарных потомков» все наши музыкальные экзерсисы.
В-третьих, мы приняли довольно дерзкое решение записывать только «большие форматы» — крупные жанровые произведения типа рок — опер или мюзиклов. Надо сказать, что 1980 год был очень интересным в плане музыкальных открытий. Как — раз в этом году из-за «железного занавеса», наконец — то, к нам в СССР из Англии прорвалась культовая опера аж 1970 года Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Под явным впечатлением этого гениального музыкального произведения Алексей Рыбников в 1980 году написал свою первую рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» о судьбе знаменитого чилийского бандита, которую успешно поставил режиссер Марк Захаров в театре имени Ленинского комсомола — «Ленкоме». И, наконец, в этом же году культовая английская группа «Пинк Флойд», играющая знаменитый психоделический рок, грянула по всему миру своей самой мощной эпохальной работой — альбомом «Стена», в которой, в абсолютно сюрреалистическом свете, превращающем «Стену» почти в библейскую притчу, перед очарованным слушателем пред
стает ужасающая своей безысходностью панорама жизни современного Человека.
Удивительно, но мы всего за полгода, наслушавшись до одури всей этой блистательной музыки, практически на одном дыхании сумели написать два крупных музыкальных «полотна» — мюзикл «Та счастливая жизнь золотого Клондайка» по мотивам произведений Джека Лондона и рок — оперу «Джимми — шизофреник» — пронзительную историю американского учителя — хиппи, случайно убившего полисмена и казненного на электрическом стуле, написанную под явным впечатлением пинкфлойдовской «Стены» и «Американской трагедии» Теодора Драйзера (гениально описанная в романе судьба Клайда Гриффитса, казненного на электрическом стуле). Конечно, большая часть музыкального материала была заимствована нами из известных рок — опер, но были и собственные оригинальные находки, за которые мне и сейчас не стыдно. Я, например, очень горжусь своим финалом в «Той счастливой жизни золотого Клондайка» — ведь до этого момента я никогда сильно не увлекался поэзией и тем более сочинительством:
«Да, тот Клондайк нам показал оскал свой хищный,
Уродливо лицо его, как смерть.
Здесь человек теряет смысл жизни,
Венец ли он природы? Нет!
Он — раб своих желаний и стремлений,
Он здесь потерян в сумраке ночей,
Здесь начинается его падение
В тот мир, куда не проникает свет лучей!
В мир, где безраздельно правит равнодушие,
Где человек во власти желтого песка,
Где жажда золота испепеляет души,
В мир, где идет смертельная борьба добра и зла!»
После этих слов автора, полных экзистенциального смысла, следовал пронзительный, берущий за душу реквием, основную тему которого я использую через 30 лет в своей более поздней рок-опере «Спецназ: история моего современника».
Последние полгода до окончания школы мы работали, как одержимые, боясь не успеть закончить «Джимми -шизофреника». Особенно удивлял и одновременно радовал Мишаня — он, с большим трудом выкраивая время в своем жестком спортивном графике, как заведенный, ходил на все репетиции, в совершенстве освоил свою уникальную ударную установку и порой выдавал такие «вкусные», замысловатые синкопы и виртуозные ритмические проходки, которые сам же всего через пару минут уже не мог повторить. Теперь, чтобы сэкономить время на дорогу, Миша всегда приходил ко мне с огромным баулом хоккейного снаряжения, который вызывал восхищение и любопытство (тогда хоккей был в особом почете у народа) всей детворы нашего дома. Все музыкальные партии и сцены рок-оперы мы записывали на мой, довольно неплохой для того времени катушечный магнитофон «Сатурн -201», а чтобы не занимать драгоценное репетиционное время, в отсутствие ребят я, методом проб и ошибок, пытался найти в комнате оптимальные, с точки зрения акустики, сектора, куда следовало поставить микрофоны.
Мы работали, как оглашенные, с фанатичным блеском в глазах, вплоть до июня 1981 года — последнего моего лета в любимой Караганде. Подходила ответственная пора выпускных экзаменов и надо было срочно заканчивать с музыкой. Наконец, «Джимми — шизофреник» был полностью записан, но нам не хватало «благодарного» слушателя, чтобы оценить достоинства нашей титанической работы. Вскоре было найдено решение и этой проблемы — мы решили выставить колонки на балконе и устроить, таким образом, наше первое публичное выступление во дворе моего дома. Так мы и поступили, а сами при этом, спустившись инкогнито вниз на улицу, из укромного местечка стали с интересом наблюдать за реакцией импровизированного зрительного зала на наш дебют.
Был прекрасный июньский полдень, на улице было полно млеющего от жара народа, так что время для демонстрации аудиозаписи было выбрано как нельзя кстати. И грянул наш «Джимми — шизофреник» на всю Вселенную. Рок-опера начиналась очень эффектно — с душераздирающего вопля Сережи Новикова: «Убили!» — и сразу же, «с места в карьер», очень динамично, как в детективах Чейза, разворачивался захватывающий, почти детективный сюжет о судьбе несчастного хиппи, который окончательно запутался в своих исканиях смысла жизни и обрел покой только на электрическом стуле. Музыка произвела во дворе эффект разорвавшейся бомбы. Несколько минут после того, как закончилась запись, во дворе стояла гробовая тишина, а потом жильцы дома, среди которых были молодые женщины с детьми и многочисленные подростки, стали шумно обсуждать услышанное, пытаясь понять, что же, все-таки, им такое интересное и одновременно очень странное показали. Насколько мы могли судить по обрывкам фраз, доносившихся до нас, ни у кого из них даже не возникло мысли, что это было произведено в кустарных условиях обычной квартиры, причем их же дома. Все они пришли к единому выводу о том, что им показали какую-то новую постановку радиоспектакля на американский сюжет, в которой сыграли, безусловно, профессиональные артисты. Признаюсь, это доставило нам троим тогда немало приятных мгновений. Тогда я вдруг отчетливо понял, какая, все-таки, это заразная вещь — «звездная» болезнь! Когда отзвучала в эфире наша музыка, мы с грустью посмотрели друг на друга, внезапно осознав, что на этом премьерном показе рок — оперы закончилась не только наша совместная творческая жизнь, но и счастливое, беззаботное детство.
Наконец, наступило долгожданное лето 1981 года, а вместе с ним и горячая, ну просто очень горячая пора выпускных школьных экзаменов. Здесь, я считаю, пришло время сказать несколько теплых слов о моих дорогих и горячо любимых учителях 47-й школы, которым я, поистине, обязан всем, что имею в этой жизни!
Учитель математики Вера Гавриловна Краснова (к большому моему сожалению я недавно узнал, что она умерла) преподавала математику в моем классе с 5 по 10 классы. Она жила с мужем и приемной дочерью в соседнем подъезде нашего дома. Это была очень приветливая, высокая, худенькая женщина с добрым лицом святой Матроны Московской и очень доброжелательным отношением к людям. Совсем недавно, в 2008 году, в Москве я узнал от мамы Сергея Новикова Тамары Семеновны о том, что Вера Гавриловна всегда очень любила меня почти материнской любовью. Я, конечно, чувствовал это и понимал, что неспроста эта замечательная женщина пять лет не вызывала меня к доске по математике, заботясь о моем душевном здоровье, а в конце 10-класса сделала все, чтобы у меня в аттестате стояло «хорошо» по алгебре и геометрии вместо законного «трояка». Дело в том, что мне с детства абсолютно не давались точные науки, и Вера Гавриловна, конечно, сразу это поняла. Причем мудрость этой женщины состояла в том, что она спокойно приняла этот факт, не устраивая сцены ревности к своему предмету, как это постоянно делала молодая физичка, считавшая, что я игнорирую ее предмет, отдавая предпочтение другим учебным дисциплинам. Проблема была еще и в том, что я всегда блистал по всем предметам гуманитарного цикла, что, конечно, давало определенный повод так думать. Но нет (сейчас я могу сказать об этом во весь голос), эта женщина глубоко заблуждалась — я был беспросветно туп для естественных наук, а когда речь заходила о тригонометрии, вообще превращался в идиотствующего солдата Швейка. Уж насколько Сережа Новиков, прирожденный учитель, опрометчиво пообещав моей маме, попытался что-то сделать в этом направлении, особенно накануне выпускных экзаменов, но и тот безнадежно махнул рукой со словами: «Ну вы, батенька, и тупица!» Конечно, мудрая Вера Гавриловна, Царствие ей Небесное, сделала самое лучшее, что было возможно в данной ситуации, оградив меня от публичных выступлений и демонстрации моих «недюжинных» математических способностей, но одновременно этим самым она превратила меня и в заложника ситуации — стоило только ей заболеть и поменяться учителю, как журнал в моей графе по алгебре и геометрии моментально начинал пестрить «двойками». Так что ни о каком переезде нашей семьи в другой город до окончания школы не могло быть и речи — я реально рисковал в новой школе остаться без аттестата о среднем образовании.
Второй, дорогой мне человек, о котором я хочу рассказать — это Эльза Григорьевна Райн, наш бессменный в течение долгих и счастливых 6 лет классный руководитель, учитель русского языка и литературы. Эльза Григорьевна была чистокровной немкой, переселенной в Казахстан из Поволжья в годы Великой Отечественной войны. В нашем классе училась и ее дочка Лиля — изящная, как фарфоровая куколка, всегда аккуратная, в белоснежном фартучке, с неизменным румянцем на пухленьких щечках. Характер и у мамы, и у ее дочки был дай Бог каждому! Это были очень приветливые, искренне доброжелательные к людям, милые женщины, всегда готовые всем и вся прийти на помощь. С самого начала у нас с Эльзой Григорьевной возникла взаимная симпатия, которая с годами только крепла и переросла почти в родственную привязанность. Эльза Григорьевна была превосходным педагогом: к каждому уроку она, по-немецки педантично, очень тщательно готовилась, каждый раз придумывая что-нибудь этакое, чтобы нас заинтересовать. В мою память врезался такой замечательный урок по литературе в 6-м классе. Эльза Григорьевна с большим чувством рассказывала нам о самой удивительной в Мировой истории искусства иконе Андрея Рублева «Пресвятая Троица». «Ребята, посмотрите, это — удивительно! Вся икона изобилует животными, а ведь в византийской школе иконописи, к которой принадлежал Андрей Рублев, категорически запрещалось рисовать животных. Видите, над третьим Ангелом справа изображен варан, как — бы прижавшийся к скале, в нем мы видим медведя с поднятой кверху мордой, а в медведе — воющую собаку. Что хотел сказать этим Андрей Рублев — никто из специалистов в области иконографии не может ответить на этот вопрос. В левой нижней части иконы, смотрите — прямо на раме, можно разглядеть рукоятку сабли или кинжала, а под ней — лицо неизвестного мужчины. Внизу иконы, в зеленой платформе, на которой сидят Ангелы, явно угадывается океан, из которого выглядывают диковинные рыбы и по которому плывут миниатюрные кораблики. Вот такая странная, загадочная икона, ребята! Я думаю, что три
Ангела, изображенные на иконе «Пресвятая Троица» — это инопланетяне, прилетевшие на Землю из Космоса. Посмотрите, нимбы вокруг их голов очень похожи на шлемы космонавтов, а в руках у них — лучевое оружие!» Как зачарованные всматривались мы в, казалось бы, такую знакомую и, оказывается, совершенно незнакомую икону, удивляясь, что раньше не замечали всех этих интригующих деталей. Через многие десятилетия Ра заставит вспомнить меня этот сакральный урок Эльзы Григорьевны и всерьез, по всем правилам науки, заняться исследованием «Пресвятой Троицы».
Понятно, что с такими замечательными учителями на выпускных экзаменах по математике и русскому языку можно было особенно не волноваться. Так оно и вышло — Вера Гавриловна пустила по рядам готовое решение задачи, а Эльза Григорьевна в моем сочинении собственноручно расставила недостающие знаки препинания. Зато с экзаменом по физике вышел полный «облом»!
Накануне экзамена по физике я решил расслабиться и, несмотря на предупреждение по радио о высокой солнечной радиации (в Караганде постоянно шел мониторинг ультрафиолета, связанный с деятельностью Байконура), отправился загорать на озеро в городской парк. Результат этой авантюры не заставил себя долго ждать — я получил весьма ощутимую дозу солнечной радиации с характерными для нее симптомами, так что на следующее утро с трудом смог подняться и, как зомби, уныло побрел на злополучный экзамен.
Воистину настал «звездный» час физички. Она не стала вникать в состояние моего, прямо скажем, сильно пошатнувшегося здоровья (слишком уж велика была ее антипатия ко мне) и решила напоследок «оторваться» по полной программе. Как сейчас помню, мне попался в билете принцип работы генератора. И ведь, вроде бы, учил, но в моей больной голове сейчас ощущалась абсолютная «торричеллиевая пустота». В общем, мой ответ на экзамене очень напоминал известную анекдотическую ситуацию, когда учитель спрашивает ученика: «Как работает генератор?» «У-у-у!» — загудел находчивый ученик. «Все, можешь идти, ты свободен!» — мрачно обронила физичка. «Это — «двойка»?» — равнодушно спросил я. «Ну почему же, с первым вопросом билета на «три» ты наговорил». Я вышел из аудитории и, совершенно потерянный, побрел домой. Странно, но «тройка» по физике в аттестате меня совершенно не расстроила, была лишь легкая досада на самого себя — учил ведь, в «поте лица» учил эту проклятую физику, а результат все равно «превзошел» все мои ожидания! Придя домой, я рухнул, как подкошенный, на кровать и ненадолго забылся болезненным сном. Проснулся я от того, что в дверь квартиры позвонили. Я открыл дверь — на пороге стояла Лиля Райн. «Сережа, мама послала за тобой, чтобы ты шел пересдавать физику, тебя уже ждут!» — сказала она. Эльза Григорьевна, как всегда, опять выступила в роли моего Спасителя и с большим трудом договорилась с физичкой о пересдаче моей злосчастной «тройки». Как не морщилась она и не пыхтела недовольно, но все — таки эта строптивая женщина не рискнула пойти против коллектива учителей школы (Воронин — то уйдет, а ей там еще работать и работать) и вынуждена была поставить мне эту вымученную «четверку».
Приближался день расставания нашего, как любил говорить Новиков, «трио бандуристов из города Одессы». У меня был уже взят билет на самолет до Барнаула ровно через день после выпускного вечера. Наш последний школьный вечер прошел в тихой, почти семейной обстановке, с родителями выпускников, шампанским и танцами до утра, ночной прогулкой «а ля ностальжи» с одноклассниками и Эльзой Григорьевной в Ботаническом саду. Моя мама не смогла прийти на вечер, так как в это время вместе с бывшими сослуживцами отца занималась переездом из нашей шикарной трехкомнатной квартиры в двухкомнатную «хрущевку» на улице Тепловозной возле вокзала. Этот неравноценный обмен мама затеяла для того, чтобы хоть как-то сохранить карагандинскую квартиру для семьи. Дело в том, что основной причиной перевода отца на новое место службы в Хабаровск был его очень серьезный межличностный конфликт с начальником карагандинской школы МВД СССР генералом Бесеновым — редкостным самодуром и «марамоем» (т. е. маразматиком на тюремном жаргоне), хотя о покойных и не говорят плохо. Бесенов, чтобы хоть как-то насолить Воронину — старшему, дал команду своим «шестеркам» отобрать у его семьи трехкомнатную квартиру, когда — то предоставленную нам этим знаменитым в Караганде милицейским заведением. Но затея не удалась: да и то сказать, что может противопоставить всем известные казахская нерасторопность и природная тупость кочевников польской пассионарности и незаурядной изобретательности моей мамы! Она очень быстро договорилась со своими коллегами — музыкантами, которые с превеликим удовольствием отдали нам свою «полубомжатскую» «хрущевку», оперативно, пока мы не передумали, въехав в наши шикарные апартаменты. Проблема была лишь в том, что, уходя на выпускной вечер, я не уточнил у мамы адрес нашей новой квартиры на улице Тепловозной. Больше двух часов, основательно уставший после ночного бдения, я бродил, как тень, возле вокзала, окончательно заплутав в серых пятиэтажках, пока, наконец, случайно не увидел маму, выносящую мусор из нашего нового жилища. Зайдя в «убитую» «богемными» жильцами «двушку», насквозь пропитанную чужеродными запахами, я тут же лег в постель и проспал глубоким сном до самого вечера.
На следующее утро в аэропорт меня пришли провожать Сережа Новиков и Миша Петров. Здесь наши дороги окончательно расходились — я уезжал поступать в Алтайский государственный университет в Барнаул, Сережа — в Московский энергетический институт, и лишь Миша оставался в Караганде, решив поступать в местный политехнический институт. Ту-154 со мной на борту разогнался по взлетной полосе, тяжело оторвался от земли и, сделав прощальный круг над городом, серебристым облачком растворился в ультрамариновом небе. Друзья еще некоторое время пристально всматривались в горизонт, словно пытаясь уловить исчезающий фантом самолета, а потом вдруг с грустью и щемящей тоской посмотрели друг на друга — в глазах обоих парней стояли слезы. Ведь и ежу понятно — кому ж охота навсегда расстаться с безоблачным детством и поменять тихую, уютную гавань на открытый, бушующий Океан, в котором если и можно обрести покой, то, наверное, только на дне! Тут поневоле задумаешься — как же, все-таки, хорошо быть подводной лодкой!
ЮНОСТЬ
«На кой ляд тебе сдался этот юридический — ерундический факультет! То ли дело медицинский институт, — с жаром убеждала меня баба Лена — польская бабушка по материнской линии. — Представь, ты — молодой, талантливый терапевт, а к тебе приходит на медосмотр прелестная девушка с красивой грудью! Это же не работа, а песня, вечный праздник души для молодого мужчины!» Баба Лена очень хорошо знала, на каких струнах моей страстной натуры можно сыграть лучше всего. «А может тогда лучше гинекологом?» — продолжал я тему эротики в профессиональной деятельности врача. «Ни в коем случае, потому что это — натуральная «угробиловка» мужчины в половом отношении. Это я тебе по опыту моих коллег — врачей совершенно точно говорю», — категорически возражала мне бабушка. Дело в том, что всю свою сознательную жизнь она проработала хирургом, причем в больнице скорой помощи, а это фактически то же самое, что работа военного хирурга на передовой, только в мирное время. Этот занимательный разговор происходил 2 июля 1981 года в квартире дедушки и бабушки по маминой линии, которая на время превратилась в базу для подготовки будущего студента Алтайского государственного университета.
Прошла ровно неделя, как я покинул Караганду и прилетел в Барнаул — свой родной город, и все это время бабушка изо дня в день настойчиво уговаривала меня поступать в медицинский институт, чтобы продолжить династию врачей. И ведь практически уговорила! Останавливало меня только то, что в медицинский институт надо было сдавать физику и химию, с которыми у меня с детства сложились, прямо скажем, очень непростые отношения. К тому же, было жаль, мучительно жаль титанического труда моих родителей, которые с восьмого класса целенаправленно готовили меня для поступления на юридический факультет — папа, соответственно, занимался со мной по Истории Отечества; мама, сама филолог по образованию, русским языком и литературой. В общем, со всеми этими душеспасительными разговорами весь мой ум пошел «нараскаряку» — я превратился в сплошной комок «терзаний и сомнений». К счастью, в Барнаул приехал отец, подстраховать меня при поступлении, и все встало на свои места — на семейном совете было решено, к большому огорчению бабушки, продолжить династию юристов.
И началась «горячая» пора подготовки к экзаменам. Меня закрыли вместе с учебниками в бабушкиной комнате, из которой я выходил только по нужде и для приема пищи, и я начал, изо дня в день, интенсивно «грызть гранит науки». Вскоре я мог легко «блеснуть» по любому вопросу военной Истории, причем проиллюстрировать свой ответ на листочке картой — схемой боевых действий в битвах мирового значения, а также уверенно процитировать их емкой цитатой из трудов классиков марксизма-ленинизма. Еще лучше обстояли дела по литературе. Я выучил такой объем стихотворений, что когда на экзамене по литературе и русскому языку мне попался вопрос про творчество Федора Тютчева, у экзаменаторши просто «полезли глаза на лоб» от удивления — я не только бодро продекламировал целый каскад стихов этого великого поэта, но и учинил их подробный филологический анализ, которому мог позавидовать господин Белинский, сам Виссарион Григорьевич. «Молодец, Воронин, ставлю вам «отлично»!» — воскликнула экзаменаторша, которой, как выяснилось впоследствии, оказалась член — корреспондент РАН, доктор филологических наук Вера Анатольевна Пищальникова — крупнейший в России и Европе специалист в области психолингвистики. Вот бы мы, наверное, с ней удивились тогда, если бы узнали, что в 2001 году Вера Анатольевна будет работать (правда, штатным совместителем) под моим началом на кафедре уголовного процесса Барнаульского юридического института МВД России.
Определенные трудности у меня возникли на вступительном экзамене по английскому языку. Дело в том, что весь 10 класс учительница по иностранному языку в Караганде проболела, поэтому я основательно подзабыл английский, по которому, кстати, очень неплохо занимался в 8 и 9 классах. Пришлось, в очередной раз, подключить свою «павлинью» стать — я расхвастался на совершенно диком английском языке с никому неизвестным доселе «алтайским» диалектом, так что две очаровательные молодые экзаменаторши ласково заулыбались, слушая мой откровенный бред, и, очевидно, пожалев меня, все — таки, поставили «отлично».
В финалу вступительных экзаменов я подошел с очень неплохим результатом, набрав 22, 5 балла. Однако, уже в процессе экзаменов, «проходной» балл для абитуриентов, не отслуживших армию, поднялся до 23 единиц, и мне катастрофически не хватало для поступления в университет заветных 0, 5 баллов. Для таких «проблемных» ребят декан юридического факультета Валентина Платоновна Колесова устроила личное собеседование с целью поближе познакомится с будущими студентами. Пришлось опять «распушить павлиний хвост», вспомнив незабвенного «Джимми -шизофреника»; немножко, совсем чуть — чуть, для пущего блезира приврав при этом, пообещав совершить настоящий прорыв в художественной самодеятельности факультета в случае моего поступления.
Мое великолепное портфолио, определенно, возымело действие, и вот мы вместе с отцом едва не падаем в обморок от радости, найдя свою фамилию в заветном списке поступивших абитуриентов. В честь такого случая отец повел меня в ресторан «Центральный», что возле главного корпуса университета, и я, впервые в жизни, по — взрослому, выпил водки вместе с отцом, сидя в шикарном ресторане и получая какое-то новое для меня, доселе неиспытанное, «жлобское» наслаждение от лакейской услужливости официанта.
На следующий день бабушка устроила в честь моего поступления в университет праздничный семейный банкет.
Боже, как же я любил эти семейные банкеты! Наш героический дед -фронтовик, полковник КГБ в запасе Василий Федорович Соколов — надевал свои боевые ордена и медали и являлся к праздничному столу прямо как Божество с Олимпа.
Да, мой дедушка Василий Федорович имел выдающееся боевое прошлое, которое, безусловно, могло бы стать темой отдельного повествования военно — патриотического характера: после тяжелого ранения и контузии в боях за Москву в декабре 1941 года он был переведен для дальнейшего прохождения службы в военную контрразведку «СМЕРШа» («Смерть шпионам»), где в период с 1942 по 1945 годы включительно активно боролся со шпионами и диверсантами различных мастей, а также подавлял кровавое восстание «бандеровцев» в Западной Украине.
Дед был всегда очень скуп на подробности той страшной войны. Из детства мне только и запомнился его шокирующий рассказ о том, как «бандеровцы», которые, как известно, никогда добровольно не сдавались в плен «чекистам», перед тем, как пустить себе пулю в висок, из какого-то особого бандитского куража (дескать, чтобы даже после смерти ничего ценного не досталось этим «поганым москалям»!) стреляли себе в левую руку, где почти у каждого находились именные часы — подарок Вермахта «верным сынам и истинным освободителям Украины»).
После короткой «героической» прелюдии деда — орденоносца бабушка с торжественным видом ставила на стол прозрачный, как вода в горном ручье, графин с охлажденной водкой собственного приготовления (она абсолютно не доверяла заводской водке, готовя эксклюзивный домашний напиток из чистейшего, 90-градусного, медицинского спирта); стол ломился от всевозможных явств, от которых у нас с Женькой (Женя – это мой младший кузен, с которым мы росли в семье как родные братья) просто «слюньки текли» в предвкушении грядущей «царской трапезы». Вскоре за столом важно собирается весь семейный «бомонд», и начинается традиционное фамильное «шоу», которое я с почти «садистским» нетерпением ожидаю весь вечер — бурные семейные дебаты по поводу роли личности Сталина в Истории.
Традиция праздничных банкетов в нашей семье берет начало аж с шестидесятых годов прошлого столетия, когда была еще жива родная сестра бабушки тетя Витя — Виктория Викентьевна. Отец бабушки и тети Вити — Викентий Павлович — был польским революционером, сосланным в 1905 году царским режимом в сибирский город Томск, откуда, собственно, и берет начало весь наш род по материнской линии. По-настоящему, бабушку звали Геленой, поэтому вплоть до совершеннолетия она проходила Галиной, и только с получением паспорта в 18 лет стала называться Еленой. К сожалению, у бабы Вити не было своих собственных детей, поэтому всю свою нереализованную материнскую нежность она изливала на нас с Женей. Стоит ли удивляться тому, с каким восторгом мы с братом всегда бежали, со всех ног спешили в гости к тете Вити, где нас ласкали, кормили всякими разными «вкусностями», одаривали щедрыми подарками.
Только тетя Витя и моя бабушка умели готовить такие изумительные польские блюда, как «бегос» (на Алтае его называют «бигусом») – тушеное блюдо из свежей капусты с копченной колбасой и свиными ребрышками; утку в яблоках и салат с рыбными фрикадельками и черносливом! Все настолько вкусно, и всего так много, слишком уж много на столе, что у моего отца, у которого постоянно перед глазами стояло голодное военное детство, после банкета всегда было жуткое несварение желудка.
Первой идеологическую атаку, традиционно, начинает тетя Рита. Она совсем недавно закончила философский факультет Свердловского государственного университета и всеми фибрами души ненавидит «культ личности» Сталина. Дед, напротив, являлся ярым сталинистом; отец же всегда относился к так называемой умеренной оппозиции «колеблющихся», время от времени меняя свои политические взгляды на Историю России, так что «шоу» обещает быть очень ярким и запоминающимся! Тщетно бабушка перед началом банкета со всех его участников берет «подписку» о том, чтобы не «заводить» деда — после первой же рюмки водки все повторяется с завидным постоянством.
«Папа, я тебе говорю — Сталин был настоящей демонической личностью, под стать Гитлеру! Гитлер и Сталин — это «два сапога — пара». Да что там говорить! Даже Гитлер, фашист, не издевался над своим народом так, как это делал Сталин!» «Много ты понимаешь, малявка! — начинал заводиться дед. — А ты знаешь, какая махровая конрреволюция расцвела в конце 30 — х годов? Да если бы Сталин не начал репрессии, «кирдык» бы пришел стране!»
«Да нет, папа, ты не прав, — вступал в спор отец. — Вот дядя Сережа, например, говорит: то, что сделал Сталин в армии — это самая настоящая диверсия. Перебить весь комсостав армии накануне войны — это же полный маразм!» «Многое твой дядя Сережа — штрафбатник — понимает (родной дядя отца, будучи летчиком-истребителем, в самом начале войны попал в немецкий плен, а после побега из лагеря — в советский штрафной батальон, причем в штурмовую его роту, специально скомплектованную из офицеров-штрафников, поэтому патологически ненавидел Сталина и все, что с ним связано)!» «Папа, в том, что он в начале войны попал в плен, не успев даже взлететь с аэродрома — тоже доля вины Сталина. Что, разве Рихард Зорге не предупреждал его о грядущей войне? Ведь даже точную дату начала войны сообщил нашей разведке, и ничего, никакой реакции Сталина», — защищал дядю Сережу отец, начиная при этом сильно заикаться от волнения — последствие сильного испуга в далеком военном детстве. «Эдик, ты не представляешь, что у нас творилось накануне войны, — горячился дед. — «Деза» (авт. — дезинформация) перла со всех сторон — из Германии, Японии, Англии. Поди разберись в этом потоке лжи!» «Поэтому лучше, на всякий случай, расстрелять военного гения Тухачевского, Уборевича, Блюхера!» — настаивал на своем отец. «Да какой он гений, этот проходимец польский! — взорвался, наконец, дед. — А то ты не знаешь, как поляки к нам относятся исторически? Этот подонок готовил реальный военный переворот — об этом сейчас уже открыто говорят все историки. Что оставалось Иоське? Сидеть и ждать, когда придут польские жиды и его повесят?» «Друзья, может, хватит, а? — взмолилась бабушка. — Неужели нельзя хоть раз посидеть и попраздновать тихо и без скандала?» «А твой дядя Сережа — самый настоящий предатель Родины, раз попал в плен к немцам. Приказ «живым не сдаваться» все знали тогда очень хорошо!» — никак не мог угомониться дед. Ну, это уж для отца было слишком! «Кто, дядя Сережа — предатель? Да, если хочешь знать, папа, в плену он был в киевском антифашистском подполье у героя Советского Союза Мирончука, — с обидой в голосе, заикаясь сильнее обычного, закричал отец. — А его после этого «упаковали» в фильтрационный лагерь, а затем — в штрафбат! И потом, знаешь, предателя Родины не поставят после войны главным инженером завода «ЛиАЗ»!» «Да «прибор» я хотел положить с яйцами на твоего дядю Сережу и этого — как его? — Мирончука!» — так, в традиционной манере, своей коронной фразой из славного армейского прошлого, дед победно закончил эту шумную политическую дискуссию за столом. А семейный праздник шел своим чередом аж до позднего вечера, но только уже без бабушки, которая в слезах убежала на кухню, в который раз расстроившись из-за своих «доморощенных придурков».
Иногда тактическая ситуация за праздничным столом развивалась совсем по другому сценарию — все молчали, как партизаны, не желая первыми начинать спор. В таком случае дед, которому становилось очень скучно за столом, сам начинал провоцировать спорщиков, заводя свою старую изъезженную «песню»: «Нет, что не говорите, а Иоська (авт. — Иосиф Сталин), все-таки, — супергений планетарного масштаба — какую великую страну «поднял»! Не то, что современные политические «карлики»! Ну, скажите мне, пожалуйста, что такое Брежнев? Полное ничтожество и одна жалость!» Такой «политической близорукости и критиканства» философ тетя Рита, конечно, не смогла стерпеть — с жаром и задором настоящего бойца она вновь и вновь, как на амбразуру, бросалась в идеологическую схватку, подняв «брошенную перчатку» деда и доставляя ему тем самым огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Я подозреваю, что у деда, определенно, была зависимость, почти наркотическая зависимость от подобных идеологических споров — и он чувствовал себя «не в своей тарелке», если праздник проходил на «сухую».
Наконец, наступило долгожданное утро 1 сентября 1981 года, а вместе с ним и первый в моей университетской жизни День знаний. Придя в наш юридический корпус на проспекте Социалистическом, несмотря на праздничный антураж этого мероприятия, я совершенно растерялся от такого количества незнакомых, слишком взрослых, как мне тогда показалось, людей. Это усугублялось еще и тем, что субъективно, на фоне этих взрослых «дядь» и «теть», я почувствовал себя абсолютным ребенком. По-видимому, подобным образом, судя по их презрительным взглядам, в реальности меня воспринимали и эти «дяди» с «тетями». В какое — то мгновение мне ужасно захотелось повернуться и бежать из университета, куда глаза глядят — вдруг охватил панический ужас, что придется пять долгих лет провести с этими абсолютно чужими, взрослыми людьми. Причем у меня даже не возникало мысли, что за 5 лет я сам могу повзрослеть — казалось, что я навсегда так и останусь маленьким мальчиком Сережей.
Этими взрослыми людьми, конечно, были рабфаковцы (абитуриенты с рабочего факультета) — ребята, уже отслужившие армию и имеющие приличный стаж работы (от 3 до 5 лет) в правоохранительных органах и народном хозяйстве. И можно представить себе ту степень раздражения, которое испытывали к нам — вчерашним школьникам эти уже «пожившие» люди. Некоторые из них, например, Валя Осипова, по три раза безуспешно поступали в университет, штурмуя неприступные «бастионы» юрфака. Все эти три года, потерянные для университетской учебы, Валя проработала контролером войскового наряда в следственном изоляторе города Барнаула — насмотрелась там такого, что не дай Бог никому!
Среди рабфаковцев сразу выделялись, какой-то своей, особенной, статью и удивительной харизмой, два гиганта — Саша Калиничев по прозвищу «Калина» и Сергей Кандрин с внешностью знаменитого французского актера Жерара Депардье. Вот и сейчас, в вестибюле главного корпуса университета, они на целую голову возвышаются, прямо скажем, над тоже совсем немаленькими армейцами, поступившими на юрфак в этом году.
«Калина» 2 года прослужил «срочную» в секретном подразделении ГРУ, готовившем подводников — диверсантов (так называемых «боевых пловцов»), о которых мы тогда вообще не знали и даже слухом не ведали. Это был отряд суперпрофессиональных киллеров (агент «007» Джеймс Бонд тут просто отдыхает), которых в особом снаряжении для подводного плавания сбрасывали с самолета или вертолета в воду, они уходили на глубину и ставили мины на вражеские корабли. Можно только представить себе уровень подготовки людей, способных осуществить такое! Кроме того, Саша обладал такой громадной физической силой, которая, вкупе с секретными приемами рукопашного боя спецназовцев, превращала его самого в грозное боевое «супероружие».
Однажды наша студенческая группа, как обычно, отправила нас с «Калиной» за пивом в ближайший к университету пивной ларек на улице Песчаной. Когда мы с ним пришли туда, нас, как всегда, встретила огромная «километровая» очередь «страждущих» — картина для того времени типичная в Барнауле — катастрофически не хватало пивных точек для сильно пьющего местного населения. Наш «диверсант», конечно, не собирался скромно стоять в очереди и терпеливо ждать, а невозмутимо подошел к раздаче, легким движением руки сгреб и отодвинул от себя с десяток «синяков», а второй рукой подал продавцу две пустые канистры. Возмущенная толпа, вроде бы дернулась вначале, но тут же горько пожалела об этом — на грязном, залитом пивом полу уже лежали три «бездыханных» тела — это «Калина» молниеносным движением руки «отключил» их.
Эту историю я рассказал деду, и она ему так понравилась, что он еще и еще раз просил меня повторить ее. Я с удовольствием выполнял его просьбу, дополняя историю новыми забавными подробностями, в «лицах» и красках изображая картину этого произошедшего в «пивняке» «сакрального» события. «Короче, заходим в пивную, — вновь рассказывал я эту душещипательную историю, — а там трясущиеся «синяки» (авт. — бывшие «зека» или алкоголики на тюремном жаргоне), такие противные и вонючие — бррр!!! «Калина» сгреб их вот этой рукой, — я показал на деде, как и чем он это сделал, — и легко отодвинул от стойки, а там было человек 30! А потом как дал пятерым, они все тут же и попадали!» Дед смеялся радостным заливистым смехом, представляя себе эту занимательную картинку. Очень уж он, истинно русский человек, любил сильных, отважных людей; их дерзость и молодецкую удаль! «Подходяще, Серега, подходяще! — это было любимое слово у деда. — Ай да «Калина», ай да сукин сын! Силен, бродяга, ничего не скажешь!» Так дед навсегда, заочно, бескорыстной «платонической» любовью полюбил этого русского, почти былинного, богатыря из спецназа.
Второй персонаж, о котором следует рассказать, был Сережа Кандрин («Депардье») — самый взрослый студент на нашем курсе — ему исполнилось уже 26 лет. Он был родом с Мамонтовского района — одного из самых живописных лесных районов Алтайского края, успел 3 года отслужить «срочную» в морфлоте и поработать в сельском хозяйстве. Особое внимание, конечно, заслуживает его служба на Тихоокеанском флоте. Дело в том, что Сережа, благодаря своим незаурядным способностям и познаниям в области радиоэлектроники, служил шифровальщиком на флагманском ракетном крейсере, который, к тому же, не вылезал из боевых походов по дальним морям и океанам. Шифровальщик — это второе лицо на судне после командира корабля, и можно только себе представить, какая служба была у «Депардье». «Не жизнь, а малина!» — как поется в известном шансоне тех лет. Когда Кандрин доставал из-под кровати в студенческом общежитии свой дембельский альбом и начинал с гордостью показывать свои флотские фотографии, у нас, салаг, не служивших в армии, просто дыхание перехватывало от зависти.
Вот Сережа, загоревший до черноты, в шортах и тропическом пробковом шлеме под огромными пальмами стоит в обнимку с очаровательными вьетнамками, которые ему всего по пояс и «дышат в пупок». А на этом снимке он уже позирует перед камерой, сидя на слоне в Шри Ланке. Лаос, Камбоджа, Кампучия — трудно назвать место, где бы не побывал вездесущий «Депардье». И, заметьте, это в советское то время, в которое, дальше дружеских стран соцлагеря, обычному человеку прорваться за границу было просто невозможно.
Оказавшись в университете, я, хорошо помня свою торжественную клятву, данную декану юрфака на собеседовании, отправился в местный студенческий клуб — предложить свои эксклюзивные услуги музыканта. Но здесь меня ждало жестокое разочарование: на юрфаке, за исключением ансамбля политической песни «Глория», больше ничего такого не было. В этом ансамбле, напрочь заидеологизированном, в то время пели Юра Дранишников (мой однокурсник), Саша Петров, Олег Пронин и Галя Лисицына (студентка последнего, 5 курса), которая, собственно, и была инициатором того, чтобы меня, все — таки, взяли в этот ансамбль — мужская часть группы уперлась «рогом» и была категорически против нового члена коллектива.
(ВНИМАНИЕ! Выше приведено начало книги)
Открыть полный текст в формате Word
 ФОТО 1
ФОТО 1
 ФОТО 2
ФОТО 2
 ФОТО 3
ФОТО 3
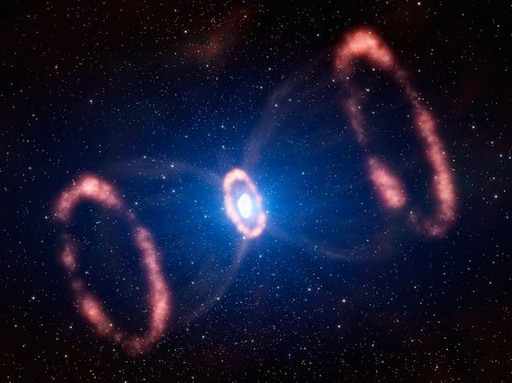 ФОТО 4
ФОТО 4
 ФОТО 5
ФОТО 5
ТАКЖЕ:
Скачать музыку к книге, написанную автором
© Воронин С.Э., 2011
Количество просмотров: 5461 |


