Главная / Художественная проза, Крупная проза (повести, романы, сборники) / — в том числе по жанрам, Детективы, криминал; политический роман / — в том числе по жанрам, Бестселлеры / Главный редактор сайта рекомендует
Произведение публикуется с разрешения автора
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 18 ноября 2009 года
Сорока на виселице
Повесть с детективным сюжетом. …В горах Кыргызстана разбился вертолет, на борту которого были несколько важных лиц – бизнесмены, депутат. Что произошло? Несчастный случай?.. На первый взгляд, – да. Но у специалистов-силовиков закрадывается сомнение. Прокурор Камбаров пытается докопаться до истины… Опубликована в журнале «Жаңы-Ала-Тоо», номер 2-3 за 2009 год.
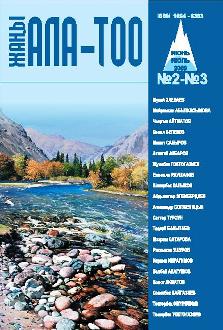
1
ХРОНИКА ЧП. Вчера в районе хребта Кара-тоо разбился вертолет МИ-8. На место события направлена следственная группа городской прокуратуры. Подробности крушения будут сообщены по завершению следствия.
Газета «Время», 19.08.91 г.
ХРОНИКА ЧП. Поступили первые данные о крушении вертолета МИ-8. Место крушения — один из выступов хребта Кара-тоо, рядом с автомобильной трассой, у 127 километра. На борту вертолета находились 4 человека – пилот и трое неизвестных. Подробности крушения устанавливаются. Все находившиеся на борту вертолета погибли.
Газета «Время», 21.08.91 г.
ХРОНИКА ЧП. Источник из следственной группы сообщил нашему корреспонденту, что полет вертолета осуществлялся с неизвестной целью. Записей в соответствующих журналах не оказалось. Имя пилота Сабитов Эднан. О нем коллеги отзываются как об опытном профессионале. Одним из пассажиров вертолета был депутат городского совета A.M. Мамытов Имена других устанавливаются.
Газета «Время», 25.08.91 г.
НЕКРОЛОГ. Представители городского совета скорбят по поводу гибели коллеги, товарища, друга МАМЫТОВА АБДЫРАХМАНА МАМЫТОВИЧА и выражают искреннее соболезнование его семье и близким родственникам.
Газета «Правда Республики», 22.08.91 г.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ОЧЕВИДЦЕМ КРУШЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА – ПАСЕЧНИКОМ МАКСИМОВЫМ:
«...Я притормозил «Жигулёнка» у родника, на краю пасеки, когда рядом послышался голос жены: «Вертолет!» Летел вертолет не высоко. Я еще подумал: «Что он здесь потерял?» И вдруг он круто пошел вниз на скалы.
КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы не заметили при этом что-то необычное? Взрыва, например? Пламя, дым?
МАКСИМОВ: Ничего. Летел ровно и вдруг пошел круто вниз».
Газета «Время», 28.08.91 г.
ХРОНИКА ЧП. О КРУШЕНИИ ВЕРТОЛЕТА МИ-8 – 18.08.91 г.
Черный ящик, потерпевшего у Кара-Тоо крушение вертолета, зафиксировал короткий диалог между пассажиром и пилотом Сабитовым.
ПАССАЖИР: Что происходит?! Что?!
САБИТОВ: А ты спроси у... (далее треск, шумы)
Что произошло в последние секунды? Что встревожило пассажира? На кого (или на что) хотел указать пилот остается неясным...
Газета «Время», 15.12.91 г.
Из заключения следственной группы:
... В салоне вертолета с пилотом Сабитовым Эднаном Сабитовичем находились трое его приятелей – земляков. В том числе депутат городского кенеша Мамытов Абдырахман Мамытович. Двое остальных, Чаргынов Иса и Коунышбаев Актан, – преуспевающие представители бизнеса. Записей в журнале о цели полета не оказалось. Наличие на борту охотничьего снаряжения и косвенные признаки (погибшие были охотниками — любителями) указывают: вертолет был использован в неслужебных целях. Установить причину катастрофы не удалось, показания черного ящика не подтвердили ту или иную версию крушения вертолета. Заключительный диалог одного из пассажиров (голос Чаргынова – «Что происходит?! Что?!») с пилотом может истолкован неоднозначно. Вина пилота Сабитова Эднана Сабитовича состоит в самовольном использовании имущества учреждения (вертолета), в компетенции которого и определение значения события и роли в нем пилота.
Решение: а) прекратить дальнейшее расследование обстоятельств крушения вертолета МИ-8; б) Из-за невозможности привлечения к ответственности (в связи с гибелью) пилота Сабитова Эднана Сабитовича уголовное дело №15 закрыть.
Главный прокурор А.И. КАМБАРОВ
2
Кабинет главного прокурора А.И. Камбарова был обставлен строго, без дизайнеров выкрутас: два комплекта столов, расставленных «Т-образно», перед креслом хозяина кабинета в виде вытянутой призмы со стульями на десять персон, в переднем углу – черный тяжелый сейф, над креслом в рамке портрет лидера страны, вытянутая не первой свежести ковровая дорожка, окна во двор и на улицу – такое впечатление, что все это создавало атмосферу, казалось, некоей напряженности, призывающей постороннего посетителя к бдительности. «Казалось» – и небольшая, в рамке и под стеклом, репродукция картины голландского художника «Сорока на виселице» из какого-то (кажется, польского) журнала. Это – для некоторых коллег что-то вроде не вполне уместной шутки в очень серьезном деле. Репродукция была пристроена в шкаф с полками для книг, с вмонтированными между ними полосами зеркала таким образом, что рассмотреть ее в деталях могли лишь хозяин кабинета и посетитель по правую руку от кресла Камбарова. На вопрос о ней, скорее нечаянный, следовало короткое нарочито – глубокомысленное: «Брейгель». Впрочем, не всегда. Как-то произошло и вовсе непонятное, что поставило полковника на миг в тупик. Произошло это во время визита генерала Солпуева (за глаза – «Пиночета») «Это, Абдураим Ильясович, намек на «вышку»? Отсюда по ковровой дорожке прямиком к вышке?» – сказал, помнится, тихо генерал Солпуев. Для Камбарова, однако, слова шефа были подобны раскату грома. «Брейгель, – уронил он тогда, но опомнился, добавили «Вроде талисмана». Камбаров ожидал развития диалога в этом духе, но генерал, проворчав что-то вроде «м-да...талисман...», резко перешел на деловой лад. Реакция людей на картину была далеко неодинаковой. Были случаи, когда иной посетитель, бросив взгляд на нее, словно под воздействием НЕЧТО, исходившего, возможно, от картины, уходил в сторону от предмета беседы. Полковник Камбаров прошелся вдоль шкафа, остановился, всмотрелся в свободную от книг и деловых папок часть полки шкафа с зеркалом и – в который раз – съежился: на него глядел изрядно полысевший субъект с отвисающими розовыми щеками на округлом лице, а главное, с раздвоенной верхней «волчьей» губой. Вспомнилось противоположное: молодой человек с роскошными волосами, оформленными в модный кок, нормальным лицом без «волчьего» оскала – портрет его, Камбарова, тогда Инсанова, тридцатилетней давности. «И мать родная не узнала бы, – подумал полковник и мысль эта, отнюдь не радостная, вдруг преобразовалась в уверенность. – И...эта не узнает, нет, не узнает!» Спроси в ту минуту, кого имеет в виду хозяин кабинета под этим «эта... не узнает», вряд ли тот разомкнул бы уста.
Карьера главного областного прокурора Камбарова, как ни странно, началась с увлечения в студенческие годы модными философскими течениями, всякого рода «буржуазными измами», от которых за версту веяло нехорошим запашком, от одного упоминания о них сейчас, спустя много лет, воротит душу. Удивительно, изречениями так называемых «буржуазных » идеалистов студент юрфака Камбаров некогда любил щегольнуть в кругу сверстников – любителей интеллектуального трепа. Это и понятно. Кьеркегор, Сартр, Фрейд, не говоря уже о проклятых на официальных и полуофициальных собраниях «лженаучных» Мальтусе и Менделе. От того – тяга к ним неоперившихся юнцов, движимая инстинктом самоутверждения. Запретный плод сладок, но от сладкого – кариес зубов. Камбаров, едва ступив на тропу самостоятельной жизни в сибирской глухомани, не столько понял, сколько почувствовал: работнику правоохранительных учреждений, будь он обыкновенный мент, или прокурор, или следователь, нужны зубы здоровые, а подчас – клыки. Больные зубы лечат, или удаляют. Так и с блужданиями в тумане экзистенциальных умозаключений, с этими подспудными «я». Первые же столкновения с конкретными служебными задачами определили их ненужность, туман рассеялся, на смену пришла убежденность прагматика со ставкой на ясные в понимании его, Камбарова, способы отыскать, отличить, выделить, установить и т.д. и т.п. – все то, что под силу логике простой, как интерьер в кабинете прокурора, арифметике, то есть все то, что составляет суть природы сыска, и что являет почву для стиля любого добросовестного местного Шерлока Холмса. Да, это так. Но как то бывает: перед тобой обычный, виденный сотни раз почерк, но маленький завиточек, еле приметный, с хитринкой, или с вызовом, или с чем-то в этом роде штришок-нюанс, скажем, в посадке какой-либо буквы-букашки и – на тебе! – уже высветилась потаенная суть письма. Так и у полковника: на почве традиционного, обязательного несколько «завиточков», порою крохотные – хоть рассматривай под микроскопом! – не от мира сего поступки, привычки, в чем-то связанные, но в чем-то и противоречащие, определяли стиль работы и образ жизни этого человека.
Не бог весть какие «завиточки». Это – не перекос от общепринятого в понимании полковником роли инструкций в практике сыска, испытанной им в якутской глухомани. И не вера, как у его коллег, в интуицию. Полковнику же ровным счетом было наплевать, притом с верхотуры самой высокой башни, на эту самую интуицию, от которой, по его убеждению, за версту несло мистикой, суеверием и всякого рода дерьмом, пригодного разве что для авторов замечательных детективных романов. Полковник считал – правда, не вдаваясь в ненужные дискуссии, – эту самую интуицию уделом гнилых интеллигентов, вечно недовольных, бесконечно и без нужды перемалывающих бесполезные идеи, внося бациллы анархии в общество.
И вот тут-то – «завиточек»: да, действительно полковник давно отрубил от себя тягу к плодам запретным – не признавал роли интуиции, но... некоторые его действия – пусть не на прямую – намеком и хотел того он или нет – говорили об ином. Как в истории ареста Макса в одной из глухих окраин Якутска, того самого Макса, который сейчас, спустя более четверть века обитал здесь, во Фрунзе, и просил полковника о... встрече.
Макса с дружками, вооруженных до зубов, брали, помнится, глубокой ночью. План захвата был продуман до мелочей, но едва ли не в последнюю минуту Камбаров, тогда старший оперуполномоченный РОВД, вдруг отступил от прежнего плана, приказал группе захвата следовать за собой, с лета, без раздумья, навалившись тяжестью тела, выбил двери, ворвался в логово Макса, плюхнулся о пол, рассек лицо о что-то рванное и острое (что в итоге раздвоило губу), вскочил на ноги и с пистолетом в руках, с перекошенным от бешенства окровавленным лицом, в считанные секунды обратил ошеломленную братву в покорную и послушную стаю. Так какая же сила заставила тогда Камбарова круто и неожиданно отступить от предложенного им же плана? Мгновенный расчет? Спроси о том его тогда, и ответ, пожалуй, был бы однозначным: да, расчет. Но выбор варианта и его расчет был подобен вспышке озарения и если дело обстояло так, то где граница между холодным расчетом и интуицией?
3
Впрочем, коллеги – ни тогда в Якутии, ни сейчас, ни тем более сам Камбаров, — не ломали голову над арифметикой «завиточков», воспринимая стиль его работы в целом, как нечто разумеющееся, понимая под стилем полковника особенности ведения им допросов. И были недалеки от истины. Беседы с подследственными и лицами, имеющими отношение к делу, в исполнении Камбарова считались оригинальными: этакая легкость, непринужденность в построении диалогов с лисьими вывертами и увертами. Мало кто догадывался – и это тешило самолюбие полковника – что за всем этим стояли труд, тщательнейшая подготовка, что в обертке непринужденности таился продуманный план, что его манера беседы с неожиданными для подследственного переходами от мягкого задушевного разговора до окрика, угроз, с набором нецензурных слов, порою рукоприкладства, не предусмотренных милицейскими правилами, лишь непосвященному казались спонтанными. Камбаров, не надеясь на память, перед допросом готовил что-то вроде шпаргалки, – еще один вариант «завиточка» – которую среди других бумаг держал перед собой, чтобы в нужный момент пустить ее в дело. То есть действия Камбарова подчас напоминали инстинкты наивной овцы, но чаще гостеприимной лисы, и иногда просыпался, как в случае с Максом, в нем голодный медведь-шатун.
Перед предстоящей встречей с супругой Сабитова он набросал на бумаге такого рода шпаргалку, однако с первой минуты встречи с ней задуманный план рассыпался образом непредвиденным.
4
И эта свалившаяся невесть откуда просьба об аудиенции! Подумать только, пожаловал Макс собственной персоной! Именно сейчас, когда ежедневно, ежечасно в голове сумятица раздумий о встрече с женой Сабитова! Между предстоящими встречами с Максом и с Сабитовой. Связь смутно-призрачная: и тот, и другая части его прошлой жизни, оставившие в первом случае физическую рану в виде волчьего оскала, во втором — боль в душе и в сердце, временами, как сейчас, просыпающуюся, как магма в застывшем вулкане.
Камбаров отвлекся – снова вспомнилось: группа захвата, ведомая им, бесшумно поднялась на площадку третьего этажа хрущевки. За дверью справа наяривала губная гармошка. Игра на губной гармошке – слабость местного авторитета Макса, известная каждому менту, в каждом захудалом РОВД не только в якутской глубинке, но и далеко вне ее. Камбаров в считанные секунды, изменив тщательно разработанный план захвата, без слов – да действительно, если не интуиция, что это тогда? – на пятачке лестничной площадки разогнал свое задевяностокилограммовое тело, сшиб
двери и через пару-другую секунд стоял рядом с Максом, приставив к виску тому пистолет: «Руки, подлец!» Макс не был бы Максом, если бы не среагировал молниеносно. Нет, он не потянулся к оружию, тем более, не бросился бежать, а просто протянул Камбарову чистую салфетку со стола, сопроводив свои действия словами в обертке мягкой дружеской иронии: «У вас, капитан, на лице кровь». А потом они ехали в милицейском газике. Камбаров сидел, прижав к лицу, к разодранной надвое и кровоточащей верхней губе, платок, а Макс в наручниках говорил заискивающим и одновременно ехидным сочувствием: «Лицо — зеркало души, гражданин начальник, а вот... с зеркалом обошлись вы не аккуратно. Зеркало, гражданин земляк, следовало беречь».
– Я тебе не земляк! – помнится, рявкнул, не сдержавшись, Камбаров голосом разъяренного медведя. – Мы с тобой, дорогой, не пили на брудершафт!
– Хорошо, скажу иначе. Мы с вами, гражданин начальник, из одного географического гнезда – из «солнечной Киргизии», – не унимался Макс.
– Из чего... – Камбаров ввернул соленое мужицкое слово, – ты здесь?
– Как и вы, гражданин начальник. Из-за тумана и запахов тайги, – заулыбался Макс. Камбарову шутка понравилась, но ответить из-за кровоточащей раны на лице не смог и только проворчал не то арестованному, не то себе: «...туманы...тайга...ну, скажет...»
– Зря, гражданин земляк, зачислили меня в подлецы. Я не подлец. Я грабитель и... музыкант... как вам известно... репертуар у меня, доложу вам, не бедный, – продолжал не без иронии Макс, затем попросил сержанта в милицейской форме извлечь из его кармана губную гармошку и когда тот, взглядом согласовав с Камбаровым, исполнил просьбу, заиграл... – конечно же! – полонез Огинского «Прощание с родиной» – вещь некогда особенно популярную среди простолюдин.
Камбаров вспомнил: питейное заведение в центре города, за одним из столиков он, тогда студент Инсанов Рахим, сидел с двумя студентами-однокурсниками, такими же, как и он, любителями нетрадиционной философии. Помнится, шла дискуссия о знаменитом кьеркегоровском «я», спорили до хрипоты и вдруг изрядно накуренное и шумное помещение заполнил полонез Огинского в исполнении Гобзы, слепого аккордеониста – любимца местных «пивоглотателей». «Ну, все! Снимаемся с якоря! – помнится, произнес один из ребят. – Мы здесь лишние...»
И еще:... дорога к РОВД была тряской, ГАЗику то и дело приходилось одолевать ухабы, однако Макс, как-то обеими руками в наручниках, ловко удерживая гармошку, наяривал полонез Огинского. Удивительно, на этот раз игра его и старомодная музыка не вызывали у Камбарова чувства протеста – он думал о мно-го-ликой сути морали. У него, Макса, свой кодекс че-ло-ве-чес-кой чести, по крайней мере он, Макс, глубоко убежден в своей правоте, убежден, что его деяния никоим образом не нарушают этот пресловутый кодекс морали – неужто у каждого человека, кем бы он не был, своя мораль!? А кто он – Камбаров? Разве он привязан безраздельно одной общечеловеческой морали? Разве в своих действиях нет у него ничего противоречащего принятому в обществе морали? А как быть с некоторыми из его «завиточков», полных не только лукавства, но подчас коварства и жестокости? И что за невидаль эта, человеческая мораль? Неужели по-своему Макс прав? Но тут строгая прямая размышлений делает крутой зигзаг. Грош цена какой бы то не было морали, если она выходит за пределы общественной морали, тем более входит в противоречие с ней! Морали, которая нашла воплощение в законах государства! То есть, будь Макс трижды земляк, дважды мастер игры на губной гармошке – все одно для него, Камбарова, он преступник, нарушитель закона, значит и нарушитель общественной морали, и по сему сидеть на казенной баланде ему, кстати, в местах отсюда не столь отдаленных, по полной программе! Камбаров согласен: да, человек вправе иметь собственный кодекс морали, однако с условием гармонии его, кодекса, с принятой в обществе моралью...
Так примерно размышлял Камбаров тогда в милицейском ГАЗике, прислушиваясь к игре человека в наручниках, в действиях которого сквозила откровенная бравада, что скорее напоминало – в чем Камбаров был уверен – барахтанье опасного зверя, попавшего, вопреки своей воле, в опасную ловушку.
И вот недавно, то есть много лет спустя после памятного якутского события этот Макс сидел в комнате Камбарова на правах старого доброго знакомого. Встрече благоприятствовал случай. Макс, он же Максимов Игорь Аркадьевич, земляк Камбарова, оказался тем самым... пасечником-свидетелем крушения вертолета МИ-8 на 127 км! Стародавнее знакомство между ними в первые же дни расследования крушения установлено, конечно же, майором Мамдиновым. Тогда же всплыло имя шефа, родилось намерение нанести тому визит, что и было исполнено. Впрочем, в тот день Камбарова ожидала еще одна новость, которая в сравнении с посещением Макса, стала подлинным сюрпризом, преподнесенным тем же майором.
Однако сначала о Максе, визит которого несколько озадачил Камбарова. Действительно, с какой стати понадобилась тому встреча с ним? Дача новых, отличных от прежних, показаний? Но почему именно ему, а не следователю Мамдинову? Приятельских отношений с ним нет и в помине, в активе – одни негативы – так отчего его зазудило? Отчего эта трехлитровая банка с отменным медом в первую минуту визита водружена им на его рабочий стол?
– Это знак моей благодарности, Абдураим Ильясович, – будто прочитав мысли Камбарова, произнес Макс.
– Благодарность? Мне? – удивился Камбаров.
– Да, Абдураим Ильясович, вам. За какие заслуги? – Макс на секунду-другую задумался. – А вы не станете смеяться?
Камбаров слегка кивнул головой.
– За то, что вы вовремя упекли меня в тюрягу. За нормальный разворот биографии на сто восемьдесят градусов!
– Да здравствует советский суд – самый справедливый в мире! – съехидничал Камбаров, кстати вспомнив популярного актера из известного фильма.
– Смеетесь, – в голосе Макса прозвучала обида, – а ведь обещали.
– Извините, виноват. Продолжайте, Игорь Аркадьевич!
Макс набрал в легкие воздух, как бы проникнув тем самым в потаенный тайник своих воспоминаний. Рассказ его был краток, сбивчив, прямо-таки по-детски искренен. Да, советский суд, определивший максимальный срок, оказав тем, как это, на первый взгляд выглядело неправдоподобно и смешно, действительную добрую услугу. Да, действительно, в первые годы «в глубине сибирских руд» он был в отчаянии, проклиная все живое и неживое. Но однажды к нему снизошла божественная благодать в виде – нет, не библии, не откровений Сиддхартхи-Будды и откровений Мухамеда! – обыкновенной, впрочем для зека необыкновенной, книги о... пчелах! В Максе, сыне неудачливого и неловкого чудака – пчеловода, книга разбудила казалось намертво уснувшие гены любви к божественным насекомым. Перед ним открылись, по его словам, двери в новый мир с его неожиданной увлекательной философией. Макс так и сказал: «Философией». Новая страсть захватила Макса, за книгой последовали книги, брошюры, публикации в периодике, и все о пчелах. Время, ускорив бег, приблизило конец тюремному сроку, родило твердое решение продолжить дело отца на родине. Сказано – сделано: сейчас у него пасека на подвижной платформе, то-есть на грузовом ГАЗе с прицепом и любимое место промысла – 127 км! Над бурной горной рекой и под шоссе, извивающегося почти в 100 м над пасекой.
– А как с этим? – Камбаров коснулся рукой губ.
– Где же быть верной подружке? – ответил Макс, достав из внутреннего кармана гармошку, – Со мной, Абдураим Ильясович! Сыграем по заявке трудящихся?
Камбаров улыбнулся, что было принято за согласие. Однако Макс, почувствовав нетерпение у вошедшего майора Мамдинова, встал с извинениями, вот, мол, оторвал человека своим присутствием от важных государственных дел, и, не забыв раскланяться, с застывшим у дверей майором, покинул кабинет. Осталось впечатление, что здесь пронеслась только что маленькая гроза, вплеснув свежий воздух и оросив кабинет приятной влагой дождя.
– Фантастика! Тебе приходилось видеть человека, которого ты упек на полную катушку, а он не только не озлобился, а напротив, благодарен за это? – расплылся в улыбке-оскале Камбаров, но, не дожидаясь ответа, вспомнив, что вопрос его беспредметен, потому что именно майору они с Максом обязаны состоявшейся только-что здесь встрече. Более того, майор-проныра выведал перед этим не только факт знакомства между ними, но и что-то более важное. Если иначе, то отчего тогда такое нетерпение? И что это за конверт в его руках? Примерно такого рода мысли пронеслись в голове Камбарова, и он, не ожидая ответа, поинтересовался:
– Что там у тебя еще для меня?
Капитан протянул незапечатанный конверт, в котором оказался вдвое сложенный лист бумаги:
– Прочтите.
Бумага была адресована некоему брату Кимсану от брата Эднана и представляла по сути прощальное письмо. Вертолетчик Сабитов писал, что он оказался в паутине долгов некоего лица из крупного бизнеса. В письме были названы имена, которые не имели отношения к погибшим и катастрофе вертолета, и признание, что у него, Эднана Сабитова, не было иных возможностей выбриться из этой долговой паутины кроме этой последней. Камбаров обратил внимание на просьбу Сабитова сохранить содержание письма в тайне. И даже в тайне от супруги Гульнары...
– Обратите внимание на дату, – подал голос майор. Камбаров послушно взглянул на правый уголок начала письма, заметно изменился в лице, увидев цифры «17.08.91 г.», и после задумчиво-удивленного «м-да», произнес:
– Катастрофа была спланирована и осуществлена Сабитовым, так?
– Да, так.
– Но тогда... – Камбаров, не закончив фразу, задумался.
– Что тогда, Абдураим Ильясович?
– Ты, конечно, все понял.
– Не все, Абдураим Ильясович.
Камбаров удивленно взглянул на майора:
– Сначала выкладывай, что для тебя бесспорно в этой каше.
– Катастрофа задумана и осуществлена самим Сабитовым. Об этом свидетельствует и показание вашего знакомого... пасечника Максимова...
– Сабитов направил машину на утес сознательно.
– Именно.
Воцарилась пауза, которую прервал Камбаров:
– Ну, а что не понятно?
– С какой стати в вертолете оказались Мамытов... Чаргынов и... Конушбаев?
Камбаров, не в пример майору Мамдинову, без особого труда понял причину решения пилота взять с собой на борт вертолета друзей, известных в стране людей. Полковник, знавший некогда близко Сабитова, без особой мыслительной работы вычислил: в основе странного, на первый взгляд, и не понятного постороннему человеку решения лежала... зависть! Зависть человека амбициозного, выброшенного на обочину житейской дороги – хорошо еще не в кювет! Ну, а друзья кто? Известный депутат, крупные бизнесмены – люди, купающиеся в море удач, вседозволенности, сытости! Кто Сабитов? Стрекоза из известной басни, весело порхавшая летом, а к зиме оставшаяся ни с чем? Пилот задрипанного, подготовленного к списанию и сбытию на стороне вертолета? Муж при известной жене? И это не все. В Сабитове – и это своеобразный плод знаний полковника о Сабитове, молодом сластолюбце! – несомненно, копошился червь, обосновавшийся в душе – шептун. Вот он, червь, в решающие часы, конечно, посоветовал взять с собой в небытие своих лучших, неповинных перед ним, друзей – не в одиночестве же пускаться в безвозвратное путешествие! Примерно так подумал Камбаров, но делиться с соображениями такого рода с майором не счел возможным.
– Нет смысла копаться в деле, подлежащем закрытию, – сказал он, стараясь придать голосу максимально бесстрастный тон, бросив в выдвижной ящик стола письмо. – Пора ставить точку.
– И я подумал о том же, – согласился майор.
5
Да, бесспорно: майор многое раскопал, однако, будь он семи пядей на лбу, есть вещи, известные и понятные только ему, в прошлом Инсанову Рахиму, студенту юрфака, поклоннику Кьеркегора, Сартра и прочих деятелей всякого рода буржуазных «измов», а ныне прагматичному со своеобразными «завиточками» прокурору Камбарову Абдураиму Ильясовичу. Впрочем, не только ему – кое-что известно и понятно и Алдановой Гульнаре, в прошлом студентке медицинского института, ныне известному в стране нейрохирургу Сабитовой Гульнаре Каримовне. Майор, конечно, не только догадывался, но и знал, правда, не в деталях, скорее со слов брата Сабитова, человека компанейского, знатока отечественной истории и фольклористики, любителя горячительного, который по праву младшинства в семье и неписанных правил родства не считал возможным копаться в деликатных страницах биографии любимого брата. И главное – человека безалаберного, позволившего майору Мамдинову изъять важное для обеих сторон письмо. Письмо предсмертное Сабитовастаршего брату стало для Камбарова некоей козырной картой, придавшей уверенность, и устранившей последние капли сомнения по поводу целесообразности встречи, хотя и запоздалой, с супругой Сабитова. Едва ли не с первой минуты он понял: да, должен увидеться с ней — пусть инкогнито, и в маске отнюдь не Аполлона! – после многих лет отчуждения и пусть именно это письмо станет последней точкой в деле, только не в истории крушения вертолета, но в деле крушения надежды его, студента юридического факультета Инсанова Рахима и крушения иллюзий, в чем был уверен сейчас полковник Камбаров Абдураим Ильясович, студентки медицинского института Алданоной Гульнары, а ныне видного нейрохирурга Сабитовой Гульнары Каримовны!
Камбаров подумал: «Пожалуй, не узнает!» Да, он бросит на стол письмо, и не по-хамски-вызывающе, а как бы без надрыва, невзначай, и... конечно же, испытывая упоительное чувство... – да! да! – мести! Его, кажется, дважды за всю его долгую и нелегкую жизнь посетило это всеми презираемое, а... на деле принятое потаенно едва ли не каждым homo sapiens, чувство. Чувство, подобное спусковому крючку, готовому в любое время придти в действие! Полковник не был мстительным человеком. Да и кому мстить в этой отлаженной системе правопорядка, где на каждом углу чудились спусковые крючки, отчего входящий сюда считал за благо оставить чувство мести – пусть временно! – как калоши, в ненастье перед входной дверью.
6
Не отпускала старая, сродни детской, обида: что заставило ее тогда сбежать от него и сделать убийственный для него выбор в пользу Сабитова? И как? Едва ли не в канун оформления брака в городском ЗАГСе, превратив таким образом жизненно важное событие в плохую оперетту! С канканом в исполнении ее с новым избранником – сластолюбцем и любителем легкой бесплатной жизни и его, студента-юриста, в роли обманутого жениха – оперетту, перепахавшую до того ровную без зигзагов биографию и по сути ставшей причиной его решения искать счастья за пределами горной республики в... далекой Якутии, оперетту, ставшей косвенной причиной обращения его, в прошлом наивного романтика, в жесткого и грубого прагматика-монстра... с заячьей губой!
Казалось, время излечило боль, но отчего сейчас, много-много лет спустя, с гибелью одного из героев «оперетты» (и это посмертное письмо, высветившее неприглядное нутро Сабитова!) снова заныла прежняя рана и вспыхнула старая, казалось исчезнувшая навсегда смута в душе...
Сквозь пелену размышления о «плохой оперетте» обозначилась фигура майора Мамдинова, человека с ушами-локаторами и обманчиво-стеклянными глазами, застывшими в ожидании ответа.
– Должен признать, – произнес Камбаров, – майор Мамдинов Сайд Даулятович справился с поставленной задачей.
Про себя же подумал: «Справился – и ладно! Остальное – не твоего ума, дорогой... Чебурашка!»
– Спасибо, — сказал майор, стараясь не выдать недовольство. Про себя же подумал: «И это все? Все мои усилия коту под хвост?»
История с письмом началась в день появления информации о крушении вертолета у 127 километра. Помнится, Камбаров ткнул пальцем в газету, сказал майору, будто выплюнул: «Допрыгался, подлец!» И, выдержав паузу, добавил: «Вот тебе задачка, Сайд Даулятович. Сколоти группу – знамя в руки и – вперед на место катастрофы... Узнай, что стряслось с этим... пилотом Сабитовым. Покопайся... Обьективно...»
Расследование дела с крушением вертолета не представляло особой сложности: ну, произошло крушение с гибелью находившихся на борту людей – и что же? Нет человека, так сказать, нет и проблемы! Отписался – и с концом! А тут эти «подлец» и «покопайся» с намеком на потаенное, требующего не просто формальной отписки, но расследования весьма и весьма серьезного! Загадка с минным полем....
Эти «подлец» и «покопайся» заставили Мамдинова насторожиться и вернее любого компаса очертили ему путь будущего поиска. Уж очень не типичными для полковника были эти слова. Особенно первое – «подлец»! Неужто он и вертолетчик знали друг друга? Неужто между ними было что-то общее? Но что? Первое – факт знакомства между полковником и таинственным пилотом-вертолетчиком дотошный майор установил в течение первых же дней, после ознакомления с биографией вертолетчика. Да, совпадения налицо: земляки, одна сельская школа, более того, однокашники, одновременно ринулись покорять столицу, правда, каждый соразмерно своим возможностям. Шеф выдержал экзамен и стал студентом юридического факультета, Сабитов же поступил в строительный техникум, а затем в школу авиаторов – выходит, действительно немало общего! Но что разделило земляков? Что, спустя более четверти века, не остудило неприязнь полковника к покойному? Отчего газетное сообщение так задело шефа? В начале расследования это казалось майору задачей почти неразрешимой – ведь в самом деле не мог же с подобного рода вопросом он обратиться к самому шефу, ведь не мог же, напустив на глаза подозрительность, поинтересоваться напрямик, вроде: «Что стряслось, Абдураим Ильясович, некогда между вами и этим...? Отчего вам становится, простите, нехорошо при одном упоминании его имени?». Разумеется, майор не заставил бы себя даже намекнуть на подобное... Из-за опасения получить в лицо нокаутирующее русское слово из трех букв. Напротив, никоим образом не афишируя свою догадку, майор Мамдинов, даже вручая письмо, стоял перед шефом с беспристрастным лицом с немигающими глазами и вытянувшимися ушами-локаторами. Наверное, только господу богу было известно, чего стоило это майору! Наверное, только всесильный и всевидящий господь бог мог увидеть клокотавшую в душе у майора горячую магму, пытавшуюся излиться наружу огненной лавой, наверное, только всевидящий господь бог мог прочитать наполненные недоумением и неудовольствием мысли майора, вроде: «О заслугах – ни слова. Лысый губошлеп...».
Как ни удивительно, установление сути размолвки, случившейся между шефом и Сабитовым, о чем не разомкнул уста шеф, впрочем, как и все остальное в событии, связанном с крушением вертолета, завершить «от» и «до» майору удалось в заданные сроки и необыкновенно просто, пользуясь обычным стародедовским, то есть, дедуктивным методом с акцентом на человеческую хитрость и нечеловеческий собачий нюх. Для этого майору достаточно было посетить место крушения, поговорить с очевидцем – пасечником, изучить данные черного ящика (кстати, с весьма скверной записью, из которой действительно значимыми оказались последние обрывки фраз) и, конечно, найти ключ к сердцу покойного вертолетчика. Майору, с его невероятной коммуникабельностью – что, на первый взгляд, противоречило образу «Чебурашки» – в первые же часы встречи удалось войти в доверие к брату Сабитова, к хромоногому Сабитову Кимсану Сабитовичу, да так, что тот, под воздействием очередной порции горячительного, выложил «новому другу» замечательную семейную сагу, в которой, разумеется, главенство принадлежало брату Эднану, человеку доброму и компанейскому. «О, какие пиршества закатывал Эднан с друзьями!...И какие друзья у него были!» – говорил, подчас вытирая слезы, Кимсан Сабитов. Беседы майора Мамдинова с Кимсаном Сабитовым ни в коем разе не напоминали допрос. То были – ни дать, ни взять – обыкновенные посиделки двух приятелей-собутыльников, истосковавшихся по мужскому трепу с длинными эмоциональными монологами Сабитова и короткими намеками в обертке незначительных реплик, которые майор подбрасывал временами, будто поленья, в затухающий костер беседы. Кимсан Сабитов для Мамдинова был настоящей находкой: будто ни с того, ни с чего мужик, копаясь, наткнулся в огороде на ящик с золотом. Открытия сыпались одно вслед другому. Да, трое высокопоставленных пассажиров были друзьями брата, а один из них, Чаргынов, и вовсе земляк, друг детства. Да, хорошим людям надо было поохотиться, порыбачить, словом, расслабиться, а брату – только на ухо, с условием держать ключ при себе! – А брату, дорогому Эднану, каждый полет был подобен шансу вдохнуть полной грудью свежий воздух вдали от супруги, этого «змееподобного существа» – о, как она ела брата! – профессора, доктора наук – не больше, но и не меньше.
Семейный архив Сабитова Кимсана представлял собою большой пакет из пластика, туго набитый фотографиями, какими-то бумагами. Майор удивился, увидев на фото двадцатилетней давности «змееподобное существо» – в действительности оно запечатлело очаровательную, без единого намека на кокетство, и великолепно знающую себе цену, женщину – будущую ученую! А рядом – вертолетчик, любитель дружеских пиршеств, весельчак с утиным носом – это, не обнаруживая волнения, надо было видеть! «Она?» – подумал майор, имея ввиду причину неприязни шефа к вертолетчику, но мысль, пришедшая в голову затем откуда-то из глубин подсознания, тут же едва не погасла и он мысленно мягко уколол себя: «С чего бы? Спокойно, Сайд Даулятоиич!» Майор, не теряя беспристрастность лица и нить семейной истории из уст Сабитова – младшего, незаметно, как бы нечаянно отвернул краешек бумажки, оказавшейся письмом, и увидев на правом углу письма дату, мысленно удивился. Еще бы! Письмо, судя по дате, было написано за день до крушения вертолета! Разумеется, майору потребовалась уйма смекалки для изъятия желанного конверта с письмом и не меньшей ловкости для возвращения копии его на место.
Да так и было! Автором письма действительно оказался... Эднан Сабитов. Письмо было адресовано брату Кимсану. И говорилось в письме о долгах – и немалых! – его, Эднана. То есть не надо было обладать острым умом, чтобы понять суть письма. Вертолетчик в письме прощался с близкими ему людьми! И о подлинной цели полета никто, кроме него, не ведал. Хотя присутствие на борту вертолета трех пассажиров действительно оказалось для майора трудной загадкой.
Майор после вручения письма шефу, согласившись с высказанной тем версией крушения вертолета, со словами «и вот еще, Абдураим Ильясович...» замялся, увидев, что полковник весь в раздумьях о письме Сабитова. И не ошибся. «Молодец! Увел из под носа важнейшую улику — и никаких угрызений совести!» – думал не без удовлетворения Камбаров. И тут от предчувствия чего-то важного непроизвольно на секунду-другую как бы само по себе задержалось дыхание – подумал: «Кто ты, майор Мамдинов – преданный делу службист или...?» В этом роде мысли приходили не однажды, но так остро и неожиданно – уж по велению ли НЕЧТО свыше! – в момент, когда тем была оказана столь нужная ему перед встречей с Сабитовой, услуга, впервые. А ведь майору, в бытность того капитаном, он был обязан вступлением на очередную должностную ступень – главного областного прокурора. Правда, скорее всего опосредственно и для постороннего не столь очевидно. Ничего казалось бы особенного. Мамдинов, тогда заместитель начальника следственного отдела, по словам коллег, честно, профессионально исполнял свои обязанности. А было так: предшественник Камбарова будто бы некогда одолжил крупную сумму денег у лица, оказавшегося криминальным авторитетом. При свидетеле Мамдинове. Который, говорят, не утаив историю о злополучном долге, вовсе не хотел нанести ущерб репутации шефа. И чего бы утаивать: мол, одолжил и как будто бы вернул долг и не более того. В самом деле ничего особенного, если бы это происходило не в тревожное для шефа время, если бы Мамдинова, кстати, любимчика шефа, мучило при этом угрызение совести, и если бы эти «одолжил» и «как будто бы» не обернулись своеобразным орудием наказания! Нет, шефа не осудили – отсутствовали веские доказательства. Просто в итоге это явилось удобным поводом – не отстранению даже! – к переводу в один из отдаленных районов области. А его... Камбарова, – на освободившееся кресло...
«Как с цепи сорвался: в пламя – без огнетушителя! Неужто все разнюхал и кое-кого зацепил на крючок, – думал полковник. – Но почему «кое-кого»? Меня! Да, добыл улику, но какого ляда лезть в омут дела. И что у него за прибамбасы с генералом Солпуевым? Как был услужлив во время чаепития с ним в кабинете! Как переглянулся он с генералом и что это значило?! И эта реплика «Пиночета» после чаепития: «А майор твой ничего! Мне бы такого...» Многое, что недавно воспринималось, как не стоящее внимания, представало в ином свете: белое – черным, пресное – сдобренным горьким перцем. Об воспоминание о чаепитии сдетонировало другое, что накалило тревогу в душе: а ведь генерал Солпуев и был тем лицом, решившим судьбу предшественника! Значит, майор Мамдинов... Однако Камбаров вслух счел необходимым вернуться к прерванной беседе. Он после небольшой паузы, не без труда изобразив беспристрастие, произнес: – «Вертолет...Письмо Сабитова... Макс ... – бред сивой кобылы».
7
Дожди начались в мае. В середине июня, они, казалось, не собирались отступать. Тогда, в мае, в нем, как и в каждом горожанине первого поколения, сработали инстинкты сельчанина-землепашца, нечто такое, что вдруг поднимает дух: ну, вот сады опылились, земля усохла и – на тебе! – милостью божьей хлынула небесная влага! Неделей-другой, однако, эмоции сменились, родилась тоска по теплу, солнцу и он, наблюдал в окно исхлестанный дождем двор, – там мокли машины с погашенными мигалками, из проходной на заднем плане, прыгая через лужи в выбоинах асфальта, к корпусу прокуратуры спешили люди. Сотрудница паспортного отдела, старший лейтенант, прыгнула через лужу неловко – из рук ее выпал какой-то сверток; следовавший за ней мужчина поспешил на помощь. И тоже не вполне удачно. Полковник, стараясь удержать нить мысли, словно охотник, учуявший добычу, собрался, прокрутил в голове сценарный план: да, конечно она не узнает в располневшем краснощеком и лысом амбале с заячьей губой, то бишь в хозяине кабинета Камбарове Абдураиме Ильясовиче, симпатичного студента-юриста, некогда считавшегося женихом, Инсанова Рахима. И тогда он, усадив ее на стул напротив, мимолетно взглянув в окно, так и скажет, следуя «шпаргалке»:
«Ну, и погодка! Не припомню такого за последние двадцать восемь лет». Именно так: не четверть века, и не двадцать пять, а двадцать восемь лет! Хотя тогда было иначе: за окном также шел дождь, но в той непогоде ощущалось тепло надежды, а сейчас... Но, нет! Никаких, абсолютно никаких намеков о прошлом! Он, Камбаров, сумеет удержать тайну двадцативосьмилетней давности, хотя – он знал это наперед – в нем будет клокотать нетерпение.
Камбаров жестом ей показал на стул напротив.
Первое впечатление – всполохи в душе: боже, она выглядела отменно! Вернее, почти отменно. Немного пополнела, чуточку сгорбилась, малость поседела, казалось тот же, правда, чуточку потускневший огонек в раскосости глаз – кто бы мог дать женщине более пятидесяти лет! И тем не менее истинно: ей пятьдесят четыре года. С хвостиком длиной около полугода. Чем жила она эти годы? Держала строгую диету? Занималась спортом? Аэробикой? Что сотворила она, позволившее обмануть всесокрушающий молох – время?
Камбаров мысленно поставил рядом с ней Сабитова и даже не того, молодого, а нынешнего. Сабитова незадолго до его гибели он увидел во время футбольного матча на трибуне для... почетных гостей. Он был в своем репертуаре. Сидел рядом с приятелем – высокопоставленным чиновником, известным футбольным болельщиком. Так вот, поставил мысленно рядом с ней Сабитова и содрогнулся: более трех десятков лет прожить вместе с этим, по его мнению, Камбарова, человеком весьма далеким от духовного совершенства. Однако последовавшие затем мысли были подобны холодному душу. Ну, а сам-то он рядом с ней каков? Он взглянул на себя – и тоже мысленно – взглядом сторонним, непредвзятым, и увидел – который раз! – грузного, облысевшего, с отяжелевшими веками, впечатляющим шрамом на переносице и с рассеченной верхней губой, неприятно обнажившей оскал зубов – действительно монстр! – мужика в милицейской амуниции! Где былая духовность и вообще следы той былой духовности – наивные по молодости романтические увлечения?
Она расположилась напротив, отлаживая не сработавшиеся вдруг спицы зонтика.
– Отказала техника? Дайте-ка мне его, – предложил услуги хозяин кабинета. Женщина, немного поколебавшись, протянула полковнику зонтик. Тот простым нажатием пальцев привел спицы в рабочее состояние. Открыл-закрыл, и убедившись в исправности механизма, положил зонтик на стол перед женщиной. Сказал:
– Отличный зонтик.
– Не знаю, как зонтику, а мне ваша похвала кажется несколько преувеличенной.
Камбаров улыбнулся, казалось бы по достоинству оценив иронию, но в действительности иному: ну, да, конечно, она уберегла давнюю привычку, эти милые, восхищавшие его штучки, окрашенные в цвета безобидной насмешки, а вроде: «Мой плащ и я тебе признательны. Ты был любезен к нам...», или: «Спасибо тебе и твоей книге. Я определенно обогатилась», – и так далее. «Мой плащ и я...» – это маленький эпизод в гардеробной республиканской библиотеки, «...твоей книге» – это, помнится, по поводу маленькой книжечки о Кьеркегоре и истоках экзистенциализма, которую он, студент-юрист, преподнес ей, студентке-третьекурснице мединститута с очевидным прицелом-намеком на совпадение у него с ней духовных интересов. Вот это и вызвало у него улыбку, правда, скупую, без риска привлечь внимание к ущербности своего лица, к этой треклятой заячьей губе.
– Слово футбольного болельщика.
– Вы играли в футбол?
– Я сказал «болельщика». Нет, не играл. Признаться, я неизлечимый болельщик, – произнес Камбаров, нащупав смутно догадку: «Кажется, не вычислила, не узнала меня, иначе не было бы этого вопроса».
– Футбольный болельщик и качество зонтиков – между этими понятиями есть связь?
– «Нет, не узнала», – утвердился мысленно в догадке Камбаров.
– Прямая. Футбольные состязания должны проводиться в любую погоду. Хлещет дождь, а ты на трибуне – с зонтиком. На трибунах – море зонтиков, – сказал Камбаров, ни на йоту не погрешив против истины. Действительно, сколько раз приводилось мокнуть и мерзнуть в ожидании успеха любимой команды. Сколько-то раз приводилось радоваться своей предусмотрительности. Дождь, а над головой спасительный купол зонтика. Вот так, в непогоду во время футбольного матча, он увидел недавно Сабитова. Бросил взгляд на гостевую трибуну, и увидев его (кстати, не узнавшего Камбарова) рядом с высокопоставленным чиновником... с непотопляемым депутатом городского совета Мамытовым A.M. (не надо было быть особенно проницательным, чтобы прочесть на лице Сабитова фонтанирующее через край удовлетворение. И не матчем – нет! Самолюбие Сабитова тешило то, что сидел он ни где-нибудь, а на гостевой трибуне! И ни с кем-нибудь, а бок о бок с важными персонами) – так вот, увидев Сабитова, он, Камбаров, тогда, помнится, так и подумал: «...Ну и ну! Не изменился негодяй. В своем репертуаре, старом, обкатанном годами!..»
– Такие зонтики сейчас редкость.
– В каком смысле?
– В хорошем. Ретро. Зонтик-ретро. Каждая деталь сколочена навечно.
– Если под «ретро» понимается все допотопное – согласна. Мне по душе слово «допотопное». Заменит, на мне все допотопное? – в голосе ее промелькнуло искоркой раздражение, что-то вроде: «Во что целит этот полковник-монстр?»
Одета она была в серое платье строгого покроя – казалось, действительно старомодное; поверх платья – белая кофта. Словом, никаких полутонов. Но вот что жаль: она так быстро вошла в кабинет, что Камбаров не успел разглядеть ее ноги. Интересно, они, как и прежде легки вдвижении? И притягательны?
Он вспомнил о замечательной заготовке-намеке о дождях в пору их молодости, но в начале беседы об этом косвенно было сказано предостаточно и потому пускать ее в ход уже не представляло резона. Впрочем, разговоры о зонтиках, футболе – треп и только. Но в трепе этом Камбаров остро ощущал напряжение и вместе с тем извлекал частицы полезной информации, которые, складываясь в целое, помогли ему почти утвердиться в догадке: да, кажется не узнала она его, Камбарова. А ведь могла и вычислить! О том свидетельствовали невозмутимость посетительницы, ее подчеркнуто-вежливые «вы» вместо прежнего «ты» и еще, еще что-то в этом роде, что порождало в душе смутное, неопределенное, отчего хотелось тотчас же избавиться, приступив к действиям ясным, но более жестким.
Женщина однако опередила – сказала сухо:
– Я слушаю вас.
– Да, конечно, – поспешно согласился Камбаров, ощущая потерю инициативы. Он положил перед собой серую папку. – Догадываетесь, почему вы здесь?
– Я бы приплюсовала еще и необъяснимую склонность следователя к обобщениям, – продолжила напор женщина. – Минимум фактов – максимум обобщений! Раздувать из мухи слона – это ваш метод расследований?
– Мне трудно в короткой беседе говорить о методах расследований. Напомню факты...
– Они мне известны. Люди в салоне вертолета были не совсем трезвы. Этого достаточно для выводов о неблагополучии в семье Сабитова? С какой стати лезть следователю в дебри семейных тайн!
Все, что угодно, но Камбаров не предполагал жестких оборонительных действий с ее стороны. И даже не просто оборонительных – именно жесткой обороны. Она защищала Сабитова так, что порою в душу вкрадывалась приправленная ревностью смута. Ситуация напомнила события тридцатилетней давности, когда он, впервые остро ощутив приближающийся разрыв с ней, не желая сказать открыто о неприятии выбора ее, ограничился намеком. Помнится, девушкой намек не был понят, и сейчас, спустя много лет, он ощутил наплыв запоздалого стыда и беспокойства. Камбаров подавил в себе чувство неловкости, встал, обогнул стол, налил из чайника в пиалу чай. Незаметно скосил взгляд вниз, изумился: он-то готовился увидеть отяжелевшие в лимфатических узлах ноги, но то, что предстало перед взором, отнюдь не говорило о приближении заката. Она, как некогда, будто интуитивно, не глядя, почуяв к себе обостренное внимание самца, машинально одернула книзу платье. Все это родило эхо прежних чувств. О, как он мечтал припасть к ее ногам! Но ничего подобного не случилось и в помине. Чего стоили его усилия выглядеть перед ней этаким интеллектуалом-почитателем полузапретных «буржуазных измов», как изрядно привелось жонглировать именами Сартра, Кьеркегора, Камю, Ницше, Шопэнгауэра и др., которых не принято было произносить вслух.
Женщина отхлебнула краешком губ чай, поставила пиалу на стол. Воцарилась долгая пауза, которую нарушила она же. Напряженную тишину, оборвавшую шумы за окном, прервал голос женщины:
– Пожалуй, пора опустить занавес. «Финита ля комедия», – кажется, так принято говорить в таких случаях, Ильяс?
Камбаров тупо уставился на нее, во взгляде его можно было прочесть: «Финита? Почему финита? Ах, да, конечно, финита! Конечно, пора опустить занавес!» И он так и – сказал, машинально перейдя на «ты»:
– Да, да, конечно. Извини.
– Ты прав. Говорить о методологии расследований нет смысла – она на виду, – произнесла женщина, почему-то устремив взгляд поверх головы хозяина кабинета. Камбаров, забыв о правилах допроса, краеугольным камнем которого было неписанное указание не выплескивать наружу истинные чувства, обернулся и увидел объект ее интереса — то был... «Сорока на виселице» Брейгеля. Дело в том, что она была в курсе истории репродукции из журнала. И может быть, даже первым человеком, которому именно молодой Камбаров поведал об этой истории. Камбаров понял. Все его неуклюжее предприятие явиться перед ней этаким мистером Икс рухнуло в одночасье. И может быть, даже не сейчас, а в первые минуты появления ее в кабинете. Хорош и он, предложивший ей именно кресло напротив висевшей картины! На кой ляд, пришла ему наивная – теперь это ясно яснее ясного! – идея маскарада! Ему, человеку, кстати, далеко не наивному! Человеку, у которого житейский путь был далеко не гладким! Человеку, прошедшему – добровольно! – далеко не райские дебри в глухой якутской глубинке! У человека, который никогда не лез за словом в карман, вдруг будто бы отсох от неожиданности язык и он тяжело – с оскалом вместо улыбки в лице! – опустился в кресло.
8
Ну, конечно же, историю о приключениях в отроческие годы в лагере геологов он некогда рассказывал ей, и впервые о «Сороке на виселице» голландского художника услышал из уст... именно этой девушки!.. Керимовой Гульнары. Студентки-медички.
Истоки этой истории теряются в глубоких складках памяти. Ему, ученику 7-го класса, едва перевалило за двенадцать, брату – за тридцать, он геолог-ученый. За окном – конец марта, преддверье апреля, когда казалось все – в ожидании «поля». «Поле» для геологов – раздолье на природе. Временная свобода от семьи, городского смога, всевидящих глаз вышестоящего начальства. Поступь «поля» властвовала и у них в квартире, заражая всех атмосферой ожидания. Брат часто брал его с собой в первые дни школьных каникул, где-то в конце мая – время, когда сирень под окном выглядела уже поблекшей, а на полотне тротуаров – это в память Камбарова вошло резьбой на камне – лежали желтовато-оранжевые плоды переспелого урюка. Значит, событие его отъезда с братом в «поле» произошло не ранее июня. Помнится, он не был обузой брату, начальнику отряда геологов. Жизненного опыта, к счастью, хватало, чтобы, не путаясь под ногами, находить себе занятия по душе. «Поле» оставило в его памяти немало незабываемого. И необязательно со знаком минус, но и не обязательно со знаком плюс – было вдосталь и того, и другого. Тягомотными казались хлопоты по кухне – одна чистка картофеля под аккомпанемент баек повара Кима Кимовича, в прошлом знаменитости элитного ресторана, чего стоит! А перегоны экспедиционных лошадей через горные перевалы из одного лагеря в другой, порою в сотнекилометровые дали! Первая переправа через бурную горную реку! Первый в жизни выстрел!...
9
О, этот выстрел!
Помнится, то была вылазка в один из отщелков вместе с Кимом Кимовичем.
...Ехали в старом ГАЗике с открытым верхом делать закупку баранины у чабанов, а на всякий случай и настрелять по пути кекликов. «Никакой ты не солдат, – подтрунивал над мальчиком Ким Кимович. – До сих пор не держал в руках винтовку! И мужик из тебя – ни муха, ни котлета! Не держал в руках боевое оружие! На, подержи! Это ствол! Это дуло! Это курок! А это прицел – вот так! Приклад крепко прижимаем к плечу, целимся в котлету – попадаем в муху. Стоп. Демьян, тормози «студебеккер», извини, «виллис» отечественного производства. Вот так. Смотри. Что видишь? Ты видишь заброшенную коновязь. А что на перекладине? Правильно, птица по пятому пункту «сорока». Без отчества. Вот тебе, мужик, первая мишень. Прицеливаемся. Нажимаем на курок – попадаем даже не в котлету – попадаем в небо...» Помнится, действительно сорока, вспорхнув, скрылась за небольшим холмом впереди. Машина продолжила путь, однако вскоре пришлось притормозить. Предмет на едва проглядывавшейся траве привлек внимание людей. Помнится, Ким Кимыч, Демьян и он, мальчик, обступили «предмет», оказавшийся... сорокой. Да, той самой сорокой, которая только что нежилась на перекладине заброшенной чабанской коновязи. Люди были удивлены, но каждый по-своему. Ким Кимович всем видом как будто бы хотел сказать: «Даешь стране угля, пацан!» Водитель-хозяйственник Демьян выплеснул эмоции вслух: «Попал! Говоришь, впервые выстрелил!?» Удивление мальчика было густо замешано на откровенном детском ликовании. Вскоре подступило чувство вины – он лишил жизни невинную птаху! Да так, что его, плачущего, долго по-отечески успокаивал Ким Кимович. «С первого – в жизни! – выстрела и сразу – в глаз мухе! Надо радоваться, а тебя будто окунули в чан с киселью! – Ласково негодовал повар.
– Что сорока! Сорока и есть сорока. Правда, тварь божья, но ты, мужик, покумекай: а баран не божья тварь? А курица не божья тварь? А человек? Режут, стреляют, убивают... едят друг друга и это – слушай и запомни! – называется естественный отбор! Борьба за выживание! А ты мужчина. Нечего переживать из-за сороки – поговорим о другом... Баб-эль-мандеб! Звучит красиво!?... Поговорим о красивом...».
Но не смог Камбаров забыть историю о первом выстреле и много лет спустя засела она неотвязно болью в душе, вспыхнувшей не в самые подходящие время и место. Помнится, уже будучи студентом (по какому-то поводу, а может быть спонтанно, без повода вовсе), он рассказал ей эту историю. Думал, мелочь, и ей, озабоченной институтской суетой, не до его наивных историй. Ан, нет. Помнится, именно она вспомнила о картине тогда ему неизвестного голландца, мол, у того тоже изображено что-то в этом духе. При этом произнесла слово «странно», не объяснив, что считает в истории странным. И он, помнится, согласился: «да, странно». Тогда же, несколько дней спустя, перелистывая ярко иллюстрированный журнал, он замер – уж не веление НЕЧТО то было? – увидев этого самого Брейгеля. Картина называлась «Сорока на виселице»! Та же перекладина, та же, казалось, сорока. Оставленная чабанами коновязь – здесь, в «поле», там, на картине – оставленная кем-то виселица. Сорока. Одна из групп изумленных от увиденного людей – там, на картине, он, мальчик Ильяс, водитель Демьян, повар Ким Кимович, только что пребывавшие в предвкушении приятной вылазки к чабанам, но словно онемевшие от неожиданного поворота события – здесь, в «поле»... Да, тогда, в городском парке, перед фасадом библиотеки, во время встречи с Гульнарой Керимовой, действительно витало НЕЧТО непонятное, мистическое. Но, что? Да, он тогда действительно рассказал ей по какому-то поводу, возможно, толчком тому был все тот же треп об экзистенциализме в обойме представлений Кьеркегора и Сартра, мол, вот, на первый взгляд, событие, не стоящее яйца выеденного, а засело в душу! Ничего серьезного, а она взяла, да и вспомнила-таки картину голландского художника. Вспомнила и тут же забыла. В его в памяти история с первым выстрелом и ее обмолвка о картине в городском парке никогда не угасали. Словно тлеющий огонь, оберегаемый человеком, они порою вспыхивали — угасали, угасали-вспыхивали. Неожиданно. По поводу и без повода. Странно. Она? Да, казалось, забыла. Как событие, не стоящее усилий памяти. А ведь бесспорно: на мысль – правда, машинально – о картине голландца, на некую виртуальную связь ее с памятным событием в «поле» натолкнула тогда именно она. И он, Камбаров, молодец! Более тридцати лет работы в правоохранительных органах, в разных инстанциях – на любой вкус! – ассорти из разного рода поисков, допросов, конспирации, погонь и стрельбищ (в двух случаях по его милости с летальным исходом!). Фамилию материнскую принял. И время вкупе с безжалостной природой постаралось обратить нормального парня в этакого квазимоду! И вдруг – ляп! И какой! Неужто, впрямь экзистенциальное вклинилось в сознание, и он, не утруждая мозг, усадил ее едва ли не напротив рамы с картиной. Выходит, едва ли не с первой минуты смогла понять наивно расставленную ловушку. Да, так. Но вот что удивительно, с этого «финита ля комедия» НЕЧТО, державшее его в напряжении, стало немного проясняться. Создалось впечатление, что он впервые за время встречи вдохнул глоток воздуха. А ведь еще минуту-другую назад он, столкнувшись с обжигаемой гордыней и запоздалой обидой, готов был бросить в лицо ей «бумажку».
10
Воцарилась пауза.
– Ты не ошиблась. Да, это я, – сказал он с хрипотцой.
И снова молчание, которое на этот раз нарушила женщина.
– Зачем понадобилась в спектакле я? Зачем? Впрочем, догадываюсь,
Рахим, извини, Абдураим, – ведь ты и имя изменил!..
Керимова сделала паузу.
– Ты хотел услышать об Эднане Сабитовиче, – женщина по-прежнему здесь и далее старалась называть имя мужа в сочетании с отчеством, транслируя таким образом свое подчеркнуто-уважительное к нему отношение. – Именно от меня? Зачем? Разве недостаточно папки перед тобой?
«Папка? Если бы только папка. Стараешься защитить мужа, не догадываясь, что в папке сущая мелочь. Не зная, что «бомба» – в прощальном письме мужа, не зная, что сейчас она лежит в укромном уголке выдвижного ящика стола, готовая разнести твою гордыню, уверенность в клочья», – примерно так думал Камбаров после ее «зачем?» На деле же он предпочел отмолчаться.
– Ты прекрасно знаешь, что Эднан Сабитович не виновен. Следователь ознакомил меня с содержанием папки. Да, с этой самой, что лежит на столе перед тобой. Допустим, вертолет был использован в личных интересах. В чьих? Каким образом? С Эднаном Сабитовичем летели трое его друзей. Известные в стране люди. Следствие задумывалось, в чьих интересах был задействован вертолет? Одного Эднана Сабитовича? А где были в это время его друзья? А не кажется тебе, Рахим...Извини, Абдураим, что Эднан Сабитович был пешкой в кругу облаченных большой властью друзей. Не кажется тебе, что твои шерлок холмсы переусердствовали, свалив все на одного человека. На Эднана Сабитовича.
– Что имеешь ввиду?
– То, что названо фактами – на деле лапша.
– Лапша?
– Так, кажется, говорит современная молодежь: «Лапша на уши».
Слова «лапша на уши» Камбаров воспринял как откровенный вызов, основанный на бесспорной уверенности в невиновности мужа, и вместе с тем они напомнили ему прошлое. Он вспомнил: они любили щеголять модным сленгом, что в устах девушки, выросшей в интеллигентной семье, звучало не вполне суразно. Все это родило смешанные чувства умиления и раздражения с преобладанием последнего над первым. В нем вскипело решение бросить на стол перед ней прощальное письмо Сабитова. И – который раз! – его рука потянулась к выдвижному ящику в столе и остановилась на полпути. Он произнес:
– Да, говорит.
– Катастрофа – дело рук одного Эднана Сабитовича? Разве следствию не известны отношения его с начальством?
– ?
– Эднан Сабитович не мог просто так самовольно посадить друзей в вертолет.
– Тем не менее, посадил и... укатил.
– Вертолет не частная его собственность. Вертолет не личная «копейка». Он не мог распорядиться им по своему усмотрению. У него с начальством были натянутые отношения, мягко говоря. Почему не спрашиваешь: кто смог ублажить аэродромное начальство и получить добро на вылет?
– Считай, спросил, – произнес Камбаров, все более утверждаясь в догадке: «Нет, не знает она о существовании письма!»
– Ты забыл, рядом с мужем были высокопоставленные друзья.
– Разрешение на вылет выбили его друзья – я правильно понял?
– Не исключено, так и произошло.
– Не исключено или так и произошло?
Вопрос Камбарова, не таивший хитрости, заставил ее вдруг замереть. Камбарову показалось, что в глазах женщины промелькнула неожиданная догадка о нехорошем. В эту минуту беседа, которую трудно назвать допросом, вдруг сломалась, изменила атмосферу в кабинете. Камбаров вспомнил: похожее с ней произошло некогда в молодости. Да, конечно же! Случилось это после ее первого ознакомительного занятия в городском морге. Вспомнилось: те же тщательно скрываемые чувства потрясения в ее глазах. Да, да, именно потрясения! Они сидели тогда в кафе и стояла середина сентября, накрапывал осенний дождик, не теплый, но и не холодный. Ему, поклоннику всякого рода буржуазных «измов», вдруг показалось, что ситуация в кафе созвучна пережитому им в «поле». Возможно, именно неугасающее напряжение в глазах девушки и желание отвлечь ее от этого побудили его тогда рассказать о событии в «поле» и когда он дошел до рассказа о мертвой сороке, до того места, когда Демьян со словами «еще тепленькая » отнес ее в сторону от дороги, именно тогда она произнесла, будто выдохнула: «Как в картине фламандского художника. У него там что-то изображено о сороке...». Ну, сказала – и сказала, а мысль, высказанная к тому же вскользь, застряла в памяти Камбарова. Как-то, перелистывая ярко иллюстрированный иностранный журнал, замер перед необычной вкладкой-репродукцией картины, не исключено, той, о которой шла речь между ними в кафе. Да, той! На перекладине заброшенной виселицы – и действительно ли художник имел ввиду виселицу заброшенную!? Да, конечно. На перекладине виселицы живописец изобразил...сороку. И картину назвал «Сорока на виселице»! И группу людей, видимо, возвращающихся с гулянки и удивленно застывших перед виселицей. А может быть перед сорокой на виселице! Вот так шли люди, пританцовывая, еще не остыв после бурного застолья, и – вдруг... сорока на перекладине заброшенной виселицы! Именно заброшенной, потому что с какой стати ей находиться здесь на безлюдном отшибе! Сорока на виселице! Что заставило одну из двух групп героев картины замереть в потрясении? Может быть, странное сочетание: сорока и виселица, как предчувствие приближающейся опасности? А отдельно, виселица – как память о некогда разыгравшейся здесь трагедии? Но что так круто остудило наступательный пыл Керимовой? Вот так, как у героев картины? Вопрос Камбарова? Картина голландца здесь в кабинете? Рассказ Камбарова о «поле», услышанный ею в давние студенческие годы? Но может быть НЕЧТО другое? И есть ли общее между тем и этим НЕЧТО, незримо витавшим сейчас в кабинете прокурора? И что за невидаль это НЕЧТО?
Неужели до сих пор ей не приходила в голову мысль об очевидной непричастности высокопоставленных друзей к крушению вертолета? Неужели только сейчас НЕЧТО разбудило у нее мысли об этом? Отчего она пришла в смятение? Странно. Ей не приходила в голову простая мысль о непричастности к полету высокопоставленных друзей мужа, что идея полета к месту охоты, а по сути, на дружеский пикник, всецело принадлежит мужу?
Как в замедленной киносъемке, каждая деталь происходящего выпуклым кадром запечатлелась в памяти Камбарова: вот на секунду-другую женщина ушла в себя; вот она машинально закопошилась в сумочке, видимо, в поисках платочка, однако действия ее неловки – она задела локтем злополучный зонтик, покоившийся на коленях, и тот выпал на пол; вот он, Камбаров, бросившийся прямо-таки с мальчишеской услужливостью на помощь и виновато остановившийся, как мальчишка, встретив, неодобрительный взгляд взявшей себя в руки женщины.
– Я сказала: «Не исключено». Тебя мой ответ не удовлетворил? Ты доволен?
– Ни то, ни другое.
– Что значит «ни другое»?
– Ни другое значит «ни другое».
– Хорошо, спрошу иначе, – продолжила Керимова. – Действия Эднана Сабитовича противозаконны и наказуемы?
– О каком наказании речь?
– Понимаю. Но тогда почему я здесь... товарищ... главный... прокурор?
– Она последние слова произнесла едва ли не по слогам, подчеркивая каждое слово. – Разве решение о закрытии дела объязательно озвучивается в присутствии близкого человека? Имею в виду себя.
– Нет, не обязательно.
– На днях на прием ко мне попросился старый ветеран войны. Еще с той советско-германской. В голове у него застрял осколок, который до сих пор его не беспокоил. И вдруг – боли в голове. Потребовалась срочная операция. И тогда вспомнили меня. А вашу покорную слугу обуял страх. Но может быть не страх, как будто бы неожиданно встала передо мной стена: ведь шансов на успех почти не было – 1 к 4. То есть почти никаких. Передо мной стоял восьмидесятилетний мужчина. Говорят, когда-то отличный спортсмен-волейболист. А для меня больной. Человек почти без шансов на выживание...
Для Камбарова обращение пантеры в мягкое, пушистое, конечно же, было приятным, хотя и неожиданным. Жизненного опыта вкупе с опытом профессиональным, настоянном в немалой степени и на так нелюбимой ему интуиции, было достаточно для того, чтобы в какие-то мгновения оценить ситуацию: женщина действительно в тупике. И не только в связи с гибелью мужа. И не только душевного атруднения по поводу предстоящей операции ветерана. Было здесь другое, более глубокое, и сидело сейчас перед ним оно подобно существу сомнамбулическому. Как некогда в кафе – тогда казалось ничто не могло отвлечь ее от тревожных раздумий. Такое впечатление, что тогда, в осенний дождливый день, в кафе она была во власти НЕЧТО. Тогда его рассказ о сороке на перекладине коновязи, первом его выстреле, заставил ее и в самом деле встрепенуться и вспомнить картину голландца. Вспомнить как бы машинально. По крайней мере так показалось ему тогда. Слова ее о картине не имели глубокого отношения к его рассказу и вспомнились потому, что и там и здесь шла речь о сороке.
А что у Камбарова? Чем для него явилась и стала история с убитой сорокой? Только ли памятью об отрочестве? О «поле»? Брате? Ким Кимовиче, его шутливом: «Кушать подано, господа!» – и действительно по воскресным дням, не по экспедиционно-торопливо приготовленным кушаньям, – поистине изысканным блюдам? Дяде Демьяне – хозяйственнике и одновременно водителе – он до сих пор стоял перед глазами с мертвой птицей в руке у колючего куста шиповника?
Возможно, прав «Пиночет», назвавший репродукцию за спиной Камбарова талисманом. Он так и сказал, упрятав вопрос по сути в платье бесспорного для него, генерала Солпуева, убеждения:
– Это твой талисман, так?
На что последовал ответ Камбарова:
– Кажется так, генерал!
– Почему кажется?
– С этой минуты без вопросов – да, талисман! – отрапортовал Камбаров, кстати, не покривив совестью: да, ему до этого не приходила в голову мысль о талисмане. Ни в якутском тьмутараканнике, ни здесь. Репродукция в раме, которую, правда, пришлось дважды обновить, с ним прошла огни и воды. Висела она и над койкой в общежитии, и в жилой хрущевке – однушке, потом – двушке, а затем – и в маленьком отсеке районной прокуратуры и, наконец, тут, в роскошном по местным меркам кабинете, но Камбарову никогда не приходило в голову это увязывать с чудодейственной магией талисмана, приносящего удачу, потому что была она с ним и в пору удач, и в часы жизненных провалов. А сейчас после реплики генерала Камбаров подумал: «Талисман – обязательно удача? Да, и что за зверь «удача»?». То есть догадка генерала была искренно принята Камбаровым и его: «Да, талисман» – были сказаны скорее не генералу, а себе самому.
И вот – новый кульбит в самосознании и искра тому – нынешняя ситуация в кабинете прокурора – смена настроения у женщины. Такое впечатление, что НЕЧТО прервало казавшееся естественным до сих пор состояние ее души. И Камбаров, может быть впервые в своей нелегкой, как он полагал, жизни понял: «НЕЧТО» жило потаенно не только в ней, но и в нем, Камбарове, в генерале Солпуеве, в Киме Кимовиче, водителе – хозяйственнике Демьяне, в Максе. В каждом гомо сапиенсе. НЕЧТО угадывается в картине голландского живописца, где оно затаено в фигуре сороки. И на виселице. И в людях, которые застыли. Не исключено, перед ним, НЕЧТО. Но что это НЕЧТО, поселившееся в нас? Может быть, осознание, что мы – я, он, она – начиная с момента рождения, стоим перед чертой, разделяющей этот мир и тот, куда устремлены, вопреки воле, наши души? Может быть, осознание этой черты, смутное и тревожное, выплескивающееся из нас в разном обличий, по разному поводу, в разное время и есть... НЕЧТО?
– Надеюсь, на этом моя миссия пришла к концу, – произнесла негромко женщина.
– Да, да, – поспешно подтвердил Камбаров.
– Надеюсь, на все вопросы получены исчерпывающие ответы, – не без мягкой иронии продолжала она.
– Да, да, конечно.
– И дело можно считать закрытым.
– Безусловно.
Керимова неспешно направилась к выходу, в шаге от дверей обернулась.
– Плохой из тебя лицедей, Рахим... извини... Абдураим... Как тебя... по отчеству?.. Но и я хороша, – и после короткой паузы добавила: – Пусть рассудит нас бог. Надеюсь, он нам простит.
С тем она покинула кабинет. Ее Камбаров увидел в боковое окно. По-прежнему, то слабея, то снова набираясь сил, шел дождь. Керимова присела на скамейку под козырьком у входа в здание, довольно долго поправляла зонтик, а затем неуверенно шагнула в непогоду. У Камбарова будто что-то оборвалось внутри. Он, не отрываясь от окна, смотрел за ней, пока та, завернув за угол здания у входа во двор, не исчезла из виду.
Мысли путались, сталкиваясь и перескакивая из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее, вспыхивала и исчезала тревога. Но мельтешение в душе должно было закончиться. По велению все того же НЕЧТО, вселившегося в него с незапамятных времен и вспыхивающего подчас невидимыми флюидами беспокойства, удивления, беспричинной растерянности, ожидания? Камбаров, движимый опять же НЕЧТО, на секунду другую задержал взгляд на картине. И тогда сквозь хаос мыслей неожиданно продралась пронзительная ясность: НЕЧТО – есть СТРАХ! СТРАХ перед будущим. СТРАХ, вселившийся в каждого из нас, независимо от нашей воли – то, что всегда неотвязно определяет наши судьбы. Он направился к окну с видом на троллейбусную остановку. Минуя двор, обогнув жилой квартал, с минуты на минуту должна показаться здесь Керимова. Остановка, однако, оказалась безлюдной. Хлестал по-прежнему дождь. С троллейбуса сошли две женщины. Пожилая и старая. Первая раскрыла зонтик над старушкой и через минуту — другую обе растворились в пелене дождя. Жалко, что у нее, известного нейрохирурга, нет машины? Неужто в такую непогоду поедет на троллейбусе? Исчезла. Наплыло то, что рождает – пусть опять же самую малость – чувство удовлетворения, то, что будь он ребенком, непременно выдавило бы из глаз влагу.
Но что это? Будто острым полоснуло в душе. Он увидел, как сквозь завесу дождя медленно, то и дело поправляя над собой зонтик, к остановке шла женщина, в которой уже не легко было узнать покинувшую только что кабинет прокурора Гульнару Керимову. «Она? Конечно, она! Так долго шла? Не случилось ли с ней что-то? Но что? – пронесся хаос мыслей в голове полковника. – Пережидала дождь и так и не дождавшись, поплелась – иначе и не скажешь! – к остановке? А может быть сбилось с ритма сердце!? ». Между тем Керимова – да, это была она, но только как-то вмиг постаревшая, сгорбившаяся! – прошла под навес остановки, присела на скамью, завозилась с зонтиком, сложила его, машинально поправила волосы. Слава богу, троллейбус не заставил себя ждать, и вскоре остановка снова опустела, и тогда Камбаров, будто освободившись от тяжкой душевной ноши, вернулся на рабочее место. Щелкнул зажигалкой, прикурил сигарету, и тут же, будто следуя команде НЕЧТО, не задумываясь, отрешенно поднес к огню прощальное письмо Сабитова. Но вот письмо сожжено, и тогда он увидел перед собой майора Мамдинова, возникшего, казалось из пелены дыма, подобно джину из бутылки. Стеклянные глаза, уши-локаторы, рост «метр с кепкой» и еще что-то в этом роде – все это действительно подчеркивало его сходство с мультяшной Чебурашкой. Глаза казались нематериально беспристрастными. На первый взгляд беспристрастными. Но в действительности обстояло иначе. Человек, близко общавшийся с ним, а к таковым относился Камбаров, не мог почувствовать (именно не увидеть, а ощутить) в них во всю пылавший ужас.
– Абдураим Ильясович, следствие не располагает другим неопровержимым документом, – изрек майор.
– Важным? Вы говорите, важным? – вяло и как-то равнодушно сказал Камбаров.
– У нас нет копии этого документа.
– Копии? Плохо... Плохо... – пробормотал, адресуя «плохо» не майору, а скорее всего себе Камбаров.
– Да, копии.
– Копии? – продолжал Камбаров, встряхивая пепел в урну. И после некоторой паузы и вдруг добавил: – Как же я запамятовал! У меня новость для вас.
– Слушаю, Абдураим Ильясович.
– Мы говорили с генералом Солпуевым о вас. С вас магарыч.
На лице майора, как и следовало ожидать, не дрогнул ни один мускул.
– Будет исполнено, Абдураим Ильясович.
– Что будет исполнено? – изобразил мастерски «непонимание» Камбаров.
– Имею в виду магарыч.
И без намека шефа майор знал, что на генерала он действительно произвел впечатление услужливостью во время встреч того с Камбаровым, и еще чем-то, что ни он, ни генерал озвучивать не считали обязательным. Конечно, его не обошли стороной слухи об аппетитной вакансии, вызывавшей у среднего звена в правоохранительных органах города обильные слюновыделения, в том числе и у него, майора Мамдинова, явно, как он думал, засидевшегося в прокурорской команде. Более того, майор понимал, что предложение генерала не иначе, как счастливым билетом не назовешь, что это даже не соломинка – это медленно проплывающая мимо яхта, на которую необходимо вовремя запрыгнуть и занять комфортную каюту. Камбаров помнил об участии капитана Мамдинова в истории перевода в отдаленный район, а фактически отстранения предшественника, хотя оценивал его роль в этом в разное время по-разному, от безразличия и скрытых чувств благодарности до беспокойства (как сейчас): «Уж не пригрел ли за пазухой змею?»
«Так ли уж нечаянно, в порядке служебных обязанностей, обмолвился о просчете предшественника Мамдинов? – подумал Камбаров. – Кто он на самом деле? Неужто сукин сын? А ведь и он, Камбаров, во время общения с этим человеком, не избежал просчетов и у него на мундире, если покопаться, можно найти не одно нехорошее пятнышко. Вот это только что уничтоженное предсмертное письмо Сабитова, например. «О боже! Какая нужда повелела мне его уничтожить!» – подступило снова, на этот раз еще более острое беспокойство. Но Камбаров снова сдержал волнение:
– Есть еще вопросы?
– Разрешите идти?
– Разрешаю, – полковник изобразил на лице доброжелательный оскал. Майор покинул кабинет. Едва за ним бесшумно закрылась дверь, снова Камбаров почувствовал беспокойство: «Неужто Чебурашка и в самом деле сукин сын? А если нет? Если да?...».
И тогда он набрал номер телефона:
– Генерал, направляю в твое распоряжение майора Мамдинова. В лучшей упаковке и со всеми причиндалами.
– В упаковке, с причиндалами, говоришь. Что это значит, Абдураим Ильясович? – послышалось в трубке.
– Это значит, что с документами у него полный порядок.
– Как сам он?
– Собирается ставить магарыч.
– Даже так? Что ж, фиксирую. А то тут у меня заржавела звездочка.
– У него их целая коллекция.
– Не притворяйся. Ты знаешь, о какой звездочке речь.
– Понял.
– Как сам?
– Это не повод для праздника, но и траур устраивать не собираюсь – рад услужить, генерал.
– Ну, будь здоров, – произнес Солпуев и положил трубку.
Положил трубку и Камбаров. Привстал с кресла, машинально прикуривая одну сигарету о другую. Рассеянно остановил взгляд на репродукции. Мысли слетались — разлетались, разлетались и слетались, и казалось, невозможно было сосредоточиться на одной из них. Казалось? Но вот замельтешило, а затем, будто следуя команде «Стоп!», пробилось из памяти – отчего-то! – воспоминание о недавней встрече с Максимовым. «Ха! Мир пчел – философия! Ну, скажет мужик! Оригинал! – подумал полковник, – А что? А ведь в этом не исключено есть какой-то смысл. Но какой!? Нам бы суметь, с божьей помощью, переварить доморощенные философии, а он... о какой-то философии пчел! Ну, Макс! Молодец! С тобой не грозит нам смерть от тоски!»
Но что это?
Мысли о Максе и мире пчел длились недолго, а вторжение предчувствия надвигающейся тяжелой тревоги было неотвратимо и подобно пороховой вспышке – внутри полковника похолодело, и он неосознанно взглянул на репродукцию картины в раме, но ничего в ней не увидел.
© Ибрагимов И.М., 2008. Все права защищены
Произведение публикуется с разрешения автора
Количество просмотров: 3994 |


