Главная / Художественная проза, Крупная проза (повести, романы, сборники) / — в том числе по жанрам, Драматические / Главный редактор сайта рекомендует
Произведение публикуется с письменного разрешения автора
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 9 марта 2010 года
Колыбель в клюве аиста
(Роман)
Роман, сложный по форме и содержанию, насыщенный психологизмами, эпизодами-ретроспективами — приглашение к размышлению о смысле жизни и предназначении человека, потерях и обретениях, непарадном братстве людей разных национальностей, чувствах дружбы, любви, милосердия как подлинных и вечных духовных ценностях.
Публикуется по книге: Ибрагимов И. Колыбель в клюве аиста: роман. – Б.: Турар, 2000. — 394 с.
ББК 84
Ки7-4
И-15
ISBN 9967-421-05-3
И 4702300100-2000
Книга оцифрована электронной библиотекой «Новая литература Кыргызстана»
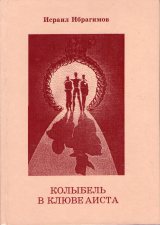
ГЛАВА I. КНИГА, НАЙДЕННАЯ В ГОЛУБЯТНЕ
1
В любой частной библиотеке, если она, конечно, собиралась не в слепом следовании моде, не из боязни остаться в стороне от книжного бума, всегда отыщется особо оберегаемая книга. В одном случае ею может оказаться настольная книга, этакий кладезь мудростей — то, что полезно иметь под рукой равно в беде и радости. Или библиографическое диво, или книга, написанная кем-то из близких людей, в лучшем случае — предком: такая книга обретает статус семейной реликвии, становясь вроде шампура, на который нанизываются честолюбие и амбиции потомков: как же! наши-то пописывали! И не писульки — настоящие книги! Или книга, написанная другом... Или твое же сочинение, первая, к примеру, проба пера — плод, кажущийся всегда чуточку горше или, напротив, чуточку слаще, — то, что ностальгически притягивает, но каждый раз при встрече заставляет смущаться сильнее. Или...
Но — стоп.
Редкое на то и редкое — где ему, редкому, взяться в библиотеке, собранной наспех, без системы? И предков, не только пишущих, а просто умевших держать в руке перо, в нашем роду не было — увы! — ни в одном колене не замечалось в помине.
Своя книга?
Вернее, книжечка в два печатных листа, в мягком переплете, оформленная в стиле брошюр по санитарии и гигиене — конечно, такая книжечка с газетными очерками не могла стать предметом гордости. Я не испытывал особого желания полистать ее заново — лежала и старела она на полке, стиснутая настоящими книгами и книжицами...
Книга, о которой идет речь,— одна из первых прочитанных мною в детстве книг. КНИГА ПАМЯТИ — вот, пожалуй, главное то, что делает ее необыкновенной, — думается, в любой библиотечке найдется одна, а то и пара неброских книг со свойствами зажигать и беспокоить память. Остальное — обычно. Вряд ли нынешнему читателю может сказать что-либо имя ее автора, накрепко забытое: книга никогда не вызывала бури, не скрещивались стрелы споров вокруг нее, не метались громы и молнии проклятий, но и обошлось, кажется, без фанфар — изданная массовым тиражом, она разошлась по библиотекам, став в ряду полюбившихся детством книг. Потом — тогда я не имел еще собственной библиотеки — она исчезла, чтобы много времени спустя вернуться и принести немало новых чувств и мыслей...
Отчего загорается желание заглянуть в прошлое? Не берусь судить о других, меня же потянуло в родную Карповку едва ли не на следующий день после провала сценария — телесериала о тридцатых годах — вещи итоговой, обещавшей, в случае успеха, наконец-то открыть мне — ах, как хотелось верить в это! ~ двери в мир игрового кино: в сорок семь лет, на подступах к главному жизненному перевалу, особенно сильна надежда на чудо (но столь же велико, нестерпимо и ощущение боли после падения). Не могу забыть: редакторская... судьи... их выступления. Вернее, обрывки выступлений: "Невозможно согласиться с позицией автора... неубедительные образы... малохудожествеино..." и так далее и тому подобное. В финале — будто несколько ударов под дых: "Сценарий противоречит и исторической, и художественной правде... Художественное кино — это становится ясно после ознакомления со сценарием — поле деятельности, увы, непосильное Исмаилову. Вот короткометражная кинодокументалистика — тут ему кое-что удалось..." Ну, конечно же, "Платон мне друг, но истина дороже..." И далее набор этих "не" и "не для", содержавшихся в "истине". Не знаю, как обстояло с Платоном, но истине я стараюсь не перечить. "Надо признать, дорогой Дауд, — сказал я себе вскоре после крушения с идеей телесериала, — ты — неудачник, обыкновенный, черно-белый... двухчастевый, короткометражный..." Словом, чувствовал я себя мерзопакостно — оттого и рванул, бросив все, в Карповку, оттого вдруг потянуло там в крохотную пристройку к дому, служившую одновременно чуланом и голубятней.
В чулане-голубятне громоздились мешки с тряпьем, валялись бараньи шкуры, полуистлевшая обувь-рвань, металлические предметы — грабли, вилы, клинья, кувалда, невесть откуда затесавшаяся деталь автомобиля (наверное, ее оставил во дворе проезжий шофер грузовика. Как то бывает: починил мотор и укатил в спешке, запамятовав на радостях какую-нибудь железку). Из-под мешка со слежавшейся шерстью я извлек самовар со следами паек по бокам — на миг почудился голос матери: "К чаю!..", затем — и шум кипятка. За самоваром покоился тяжелый чугунный утюг, поверх него — сосуд для керосина (а в памяти тотчас голос за дувалом: "Керосин!.."), а также краешек чего-то изрядно поржавевшего. Картину дополняли горка птичьего помета на полу, стены, заляпанные тем же пометом. В пристройке жила стайка из пяти голубей — остаток самой крупной в Карповке птичьей колонии. После смерти отца, увлеченного голубятника, стая стала редеть. Ежегодно, наезжая, я замечал грустную закономерность: стая недосчитывалась парочки-другой, птиц переманивали, но некоторые из них, не исключено, попадали под выстрел любителя жаркого из голубятины. Оставшуюся пятерку подкармливали лишь в зимнее время, в стужу, из-за нечаянной жалости или же в память о покойном отце, который считал их знамением добра. Пятерка дважды в день, будто по команде, шумно вспархивала, уносилась на кормежку — на стерню, колхозные тока, к стогам или на разъезженные проселки — туда, где сулила пожива. Час-другой спустя пятерка планировала над верхушками тополей и яблонь, садилась на крышу и, обворковав удачу, ныряла в пристройку, затихала...
Увидев человека, птицы насторожились, и когда я, стряхивая пыль с какой-то тетради, найденной в заброшенном ящике, хлопнул ею о косяк, заметались над головой. В ящике лежали и другие бумаги, в большинстве ученические тетрадки, исписанные жирными фиолетовыми чернилами с учительскими оценками, с некогда грозными "пос", "хор", "плох", "оч. плох", тетрадками, начинавшимися аккуратно и заканчивавшимися записями вкривь-вкось — будто водили не перо, а что-то прыгающее, норовящее выскользнуть. На дне ящика покоились книги. Почти все — старые учебники. Бросилась в глаза книга с обшелушенными буквами на переплете. Цвет переплета из-за пыли определить сразу не представлялось возможным. Пришлось снова хлопнуть ею о косяк и всполошить голубей. Когда стихло, я прочел на коричневой обложке заголовок — "Карл Брукнер", под заголовком увидел рисунок — мчащийся фургон-одноконку.
Когда-то, впервые читая книгу, я воображал себя на месте маленького героя... Вскакивал на козлы фургона и что есть мочи — как изображено на обложке книги — несся по улицам, устланными брусчаткой. Мне удавалось запросто "выйти" из себя и "войти" в мир другого человека, в другое время с иной раскладкой вещей в пространстве и времени. Действие в книге разворачивалось в немецком городе, казалось, бесконечно далеком от нашего Приозерья, Но что расстояние для пылкого мальчишеского воображения! Раз за разом я переносился на родину Бруннера — так звали маленького героя, — жил его радостями и тревогами. Жил, борясь с коричневостыо — с фашистами (вот в чем оказался смысл сочетания красок на обложке — красные буквы на коричневом фоне! Тогда, конечно, я ничего не знал о полиграфических символах). Я был полностью на стороне Бруннера. Да и как иначе, если перед нами стояла одна общая беда. Ненавистное Бруннеру выросло в огромную силу: оно, перехлестнув, затопило в коричневое его город, страну, добралось до нас — вовсю полыхала война; и мы, читая книгу, верили искренне в невымышленность Бруннера, надеялись на него, Бруннера, конечно, повзрослевшего Бруннера, продолжавшего сражение с фашистами. Он был сродни нашему Тимуру, и мы всерьез силились представить встречу их на поле сражения. В книге война, правда, лишь угадывалась; я, "войдя в Бруннера", его глазами видел уличные сценки мирного города — фургон катил мимо общественных и жилых зданий; по тротуарам, пригнанным впритык к домам, спешили люди в булочные, пивные, парикмахерские, на службу и со службы, домой и из дома — их голоса и шаги сливались в шум, прошитый цоканьем копыт и жестким постукиванием стального обода колеса о камень... В пристройке-голубятне я попытался, как бывало когда-то, "войти" в героя книги — где там! — то было подобно насилию над человеком из другого мира.
Из книги выпали фотографии — вот сюрприз! — крохотные, 6x5, пожелтевшие, конечно, "производства" Жунковского, обладателя едва ли не единственного во всем Приозерье любительского фотоаппарата, небольшой черной металлической коробки.
Запамятовал: то ли фотоаппарат подростку подарил будущий отчим, то ли его, довоенный уникум, приобрел еще Жунковский-отец. Не часто мы видели Жунковского с фотоаппаратом, но когда такое случалось, ликованию нашему не виделось конца. Мы фотографировали — Жунковский никому не отказывал в просьбе поноситься с техническим чудом, позволял пощелкать. И щелкали. Но на том дело кончалось. Я серьезно подозреваю, что многие из нас, пощелкав и попозировав, так и не увидели затем фотографий. И вот почему: у Жунковского вначале шел сплошной брак — не заладилось с физикой и химией! Потом, когда поднакопился опыт, дело застопорилось из-за дефицита пленок, каких-то особых, чего не нашлось у местного промартельного фотографа.
Как-то было: мы с отцом ловили приконвоированного стаей голубя-чужака. Во дворе появился Жунковский, смущенно протянул фотографии — вот они-то и оказались в книге, найденной в чулане-голубятне... Что-то нахлынуло!
Благодаря крохотным частицам краски по уголкам букв на обложке книги, восстановились в памяти красные буквы-зигзаги на коричневом фоне.
Немного воображения — и красные буквы-зигзаги кажутся сполохами.
Дошел черед до фотографий и — пошло... Фотографии не блистали совершенством, многое в них узнавалось с трудом. Кто бы мог, к примеру, признать меня в расплывшемся улыбкой пацане из фотографии? Или в безликой толпе узнать знаменитый карповский базар? А в кадре с верхушками елей, выступавших за склоном, узнать лесок, и не какой-нибудь, а второй лесок — те в горах лежат по отщелкам и саям с подсолнечной стороны и обозначаются счетом "первый, второй... четвертый... шестой..." Второй — потому что у второго в конце, где горбились ели пирамидами, в просвете деревьев желтела полукруглая, юртовидная обвалина-печать, проставленная в 1911 году страшным землетрясением...
С той находки в пристройке-голубятне родилось нечто похожее на душевный зуд. Начиналось то с беспокойствия, рука тянулась к полке — я доставал коричневую книгу и подолгу разглядывал пожелтевшие фотографии. Со временем книга разбухла — в семейном альбоме отыскалась парочка-другая таких же старых фотографий, они присоединились к прежним; туда же, в книгу, я положил и вовсе свежие фотографии некоторых земляков, пару писем, телеграмму — книга разбухла, назначение ее раздваивалось: она была книгой и уже не совсем книгой, альбомом не альбомом. Фотографий — пятнадцать. Они помечены в уме, у каждой название — "Берег", "Второй лесок", "За кизяками", "Пароход "Советская Киргизия", "Зима в Приозерье", "Базар в Карповке", "Садык на Рыжем", "Жунковский с лягушками", "Жунковский в пути", "Жунковские на вокзале", "Сирень"...
Фотография "Берег" запечатлела залив с рыбаками на переднем плане, а "Второй лесок" — знакомый пейзаж сразу за мельницами, "За кизяками" — меня с мешками кизяка у ног; "Пароход "Советская Киргизия" — темный силуэт флагмана местного пароходства; "Зима в Приозерье" — самого Жунковского с деревянной лопатой в руках; "Садык на Рыжем" — пляж с голыми пацанами-купальщиками, расположившимися на песке "солнышком", с всадником Садыком позади; "Жунковские в пути" — семью Жунковских: Жунковскую-маму, Виолетту, Артура, позирующих у подъезда "Дома дехканина"; "Жунковские на вокзале" — ту же троицу, но теперь на фоне здания железнодорожного вокзала... Только-то!
Казалось, ничего особенного!
Но беру в руки фотографию, и тотчас нечто уводит за рамки фотографии — вспоминается не только, к примеру, миг, когда я по просьбе Жунковского "щелкнул" его на фоне сугроба, но и многое из той зимней поры, вспоминется не только, скажем, силуэт "Советской Киргизии", но и многое, связавшее нас с этим пароходом... Нередко машинально раскладываю перед собой фотографии, перебираю их, пытаясь выискать некую связь между ними, такое, что одних сближает чуточку более остальных. Так в одной связке памяти оказались фотографии "Берег" и "Второй лесок", в другой — "За кизяками" и "Пароход "Советская Киргизия", в третьей — "Зима в Приозерье", "Базар в Карповке", "Садык на Рыжем", в четвертой — "Жунковский с лягушками", в пятой — "Рахманов-футболист"...
Книгу по возвращении из Приозерья я водворил в шкаф, втиснул в пустовавший закуток, рядом с "Танкером Дербентом" Крымова, "Леопардом" Лапендузы, еще тремя книгами. Оказалось, более подходящего места нельзя и придумать: книги в закутке были некогда изрядно попорчены дочерью-школьницей, которой однажды пришла оригинальная мысль использовать книги в энтомологических целях; девочка, одержимая порывом коллекционирования, обратила книги в хранилище различного вида насекомых, конечно, в основном бабочек-капустниц, каких-то жучков, тараканов, жужелиц — так что коричневая книга попала в компанию подобных себе. Надо ли говорить о том, насколько я опечалился, увидев едва ли не в каждой странице раздавленную бабочку! Какой ушат выговора вылился на голову несчастной девочки! То громовержцем, то в позе известного басенного повара, то грозно, но больше жалостливо, я втолковывал ребенку о пользе книг, о необходимости бережного отношения к книге. К любой. Не говоря уже о таких, как "Танкер Дербент" и "Леопард".
— "Танкер Дербент"! Твой папа кинодраматург, — втолковывал я, но способно ли существо, не осознавшее пагубности порчи книг, постичь важность понятия "кинодраматург"? — Твой папа, детка, воспитан на этой книге... а "Леопард"? О, "Леопард"!
И это почти все, что я мог произнести, потому что сознание и язык, натолкнувшись на педагогический тупик, каменели: можно ли оборачивать в яркую обертку роман о рафинированном аристократе — как-то это могло сказаться на воспитании дочери?..
Я опустился в кресло, но, услышав "О, "Леопард"!", дочь оборвала плач, с мокрыми глазами, наконец-то поняв тяжесть поступка, изумленно взглянула на меня.
— Смотри, детка, — я вытряхнул на стол расплющенную бабочку... еще... еще... — нарисовал апокалипсическое: а если и другие дети, следуя нехорошему примеру, возьмутся за коллекционирование букашек — тогда, может статься, живность на Земле вообще исчезнет!
— Не останется ни одной бабочки! Ни одной! Ни тебе божьей коровки! Ни жучка! Ни муравья! Ничего! — говорил я патетически, не догадываясь, что дочь неожиданно взорвется смехом, этим детским "и-гы-гы-гы-гы", что ее искреннее и чистое, как и все детское, "папа, я впервые вижу тебя таким смешным" заставит осечься, картина экологической катастрофы исчезнет, и я, сломленный непредвиденным фиаско, удрученно суну порченые книги в шкаф... Лежат они там, на полке, с тех пор обратившись в привычное, обжитое. Изредка взгляд задержится на одной из них, и тогда вспыхнет кусочек памяти об энтомологических подвигах дочери — вспыхнет, чтобы тут же угаснуть.
Иное дело коричневая книга. К ней тянет. В редкие минуты покоя, чаще вечерами, сажусь я в кресло у книжного шкафа, неспешно — и в который раз! — разглядываю фотографии...
"Здравствуйте, уважаемый Дауд Исмаилович!
Только что по центральному телевидению показали Ваш фильм о пароходстве в Приозерье. Смотрел я его, не скрою, пристрастно. И вот почему. Я вырос в Карповке. Мальчишкой, как и все, бегал глядеть на проплывающие пароходы. Тогда их было четыре: куцый тягач "Комсомол", два тихохода "Тянь-Шань" и "Труд", четвертый — герой фильма "Советская Киргизия". "Киргизия" казалась исполином. Каждый раз, когда его темный силуэт появлялся на горизонте, как черный айсберг! Мы знали, что ему далеко до исполина, что это небольшое суденышко с тесным трюмом, узкой палубой, крохотной капитанской, с командой из пяти-шести человек. Но как магнитил силуэт парохода, как хотелось попасть на его борт! Вы правы, говоря, что "Советская Киргизия" не просто корабль-трудяга, он — своеобразный символ прогресса, культуры, корабль, будивший некогда романтические мечты, стремления к знаниям.
Нам так и не удалось тогда попасть на борт его. И не пришлось бы; уже, казалось, отдалилась бесконечно далеко мечта... Но спасибо фильму — он возвратил меня к детским и юношеским дням. Получился фильм простым, "без архитектурных излишеств" — это и хорошо. Я с удовольствием вместе с камерой ходил по узкой палубе судна, заглядывал в трюм, опускался по крутой лестнице в машинное отделение, следил за действиями угрюмого механика, слышал удары о борт волн, ощущал качку, следил за действиями девушки-матроса в крохотном камбузе, слушал из ее уст лермонтовскую "Сосну"... Словом, фильм тронул до глубины. Это так. И все же я покривил бы душой, утверждая, что решение написать Вам вызвано одним желанием высказать благодарность за добрую картину. В конце фильма в списке авторов я увидел Ваше имя — Дауд Исмаилов. Неужели?! Был у меня в Карповке друг, и тоже Дауд Исмаилов. Правда, звали мы его покрепче. Мог ли мой Додик стать кинодраматургом Даудом Исмаиловичем? Не знаю, как насчет кинодраматурга, а вот автором сценария о пароходстве мог стать вполне — здесь все бьет в одну точку. Думается, что нет нужды разъяснять, насколько важно для меня найти подтверждение догадке.
Примите мои поздравления и, пожалуйста, если не затруднит ответьте: Дауд Исмаилов и Додик — одно лицо?
С искренним уважением Артур Жунковский.
P. S. В детстве меня звали иначе, но от того имени разило кондовой стариной. И тогда один из друзей предложил новое имя — Артур. Прилипло. Такие метаморфозы..."
2
...Вот первая фотография — "Берег"... Это Жунковский запечатлел начало купального сезона, один из майских дней. Точнее, кусочек дня.
Строго говоря, сезон в Карповке наступал в начале лета, в соответствии с древним обычаем русских — днем Ивана Купалы. Нам, пацанам, нерусским и русским, было, однако, не до обрядов. В первые же майские дни, а то и в конце апреля, только и слышалось: "Как вода? Потеплела?.." Собирались в стайки дети, шли на побережье собирать кизяки, а заодно купаться; шли через луг, сады, облепиховые заросли. Шли, нахлобучив на головы, будто шлемы, холщовые мешки, а вдоволь накупавшись, позагорав, долго плутали потом в облепишнике, выискивая на сухих полянах кизяки — сухой коровий помет для топлива...
"Здравствуйте, дорогой Дауд!
Вот и пересвистнулись, выходит, с тобой.
В голове укладывается не сразу, но все равно: около сорока лет тому назад мы были вместе, лазали через глиняные дувалы в чужие сады, читали одни и те же книги, мечтали о деятельности литературной — помнишь?.. Смешно: мы еще тогда пытались что-то царапать — от чего, от кого и когда пришел сочинительский зуд? Кто первым сказал "мяу"?
Вот написал письмо, просмотрел черновик, убавил-прибавил, призадумался: получилось не письмо, а повесть — послание раба божьего Артура Жунковского бусурманину Дауд ибн Исмаилу ибн (не помню дальше...). Написал и устыдился: с чего бы обмусоливать подробности своей жизни? Зачем они тебе? Не стану оправдываться: прорвало, выговорился — отвел душу. Так уж получилось: писал тебе, а вышло, что и тебе, и себе, потому что, царапая" письмо, позже читая его, я как бы взглянул на себя со стороны. Взглянул двойным зрением — во мне сидели рядом бухгалтер и раб божий. Бухгалтер скрупулезно подсчитал плюсики и минусы, вывел итоговую копейку и приуныл. Но ты не верь бухгалтеру — слушай раба божьего Артура. Его слова я перетащил с конца письма сюда. "Знаешь,— скажет он тебе,— все эти плюсики и минусики, дефицит ярких событий и подобное тому составляют суть моей жизни. Все это мое, оно мне дорого; иного и не надо — не переварит организм..." Ну, а если совсем серьезно: подсчитывать бабки, надеюсь, еще рановато..."
"БЕРЕГ". Мне 5 лет, а до начала войны — горькой отметины — оставалось примерно столько. Более сорока лет — подумать только! — минуло с той поры, а будто происходит это сейчас, в сию минуту.
...Медленно ползет телега. Отчаянно скрипит колесо, скособоченное о деревянный шкворень; фыркает мерин; оводы впиваются в мокрый лоснившийся круп коняги — тот, хвостом тщетно пытаясь отогнать летающих насекомых, то и дело останавливается.
В осоке по бокам колеи перламутрела вода, и сверху, наклонившись с телеги, я вижу на дне извивы пиявок, на поверхности воды — длинноногих насекомых-конькобежцев. Воздух пропитан запахом торфа, ржавой воды, раздавленных лягушек, дегтя, лошадиного пота. Тысячеголосно зудит комарье. Носится оно облаками — телега, попадая в облако, выбирается, чтобы угодить в следующее, еще более надоедливое и зудное.
— Но! Но! — покрикивает отец, мерин плетется, не реагируя, понуро.
Брат сидит, свесив за кузов телеги ноги. Штанина у него закатана выше колен, ступни мягко скользят по верхушкам осоки, молодого камыша, ему доставляет удовольствие прикосновение трав — я думаю, что было именно так, потому что каждый раз, когда по краю дороги навстречу выплывает островок травы, он нарочно опускает ноги, пытаясь дотянуться до травы. Дорога, если таковой можно было считать колею в сажень, не более, пролегала в сазах, уходила в заросли облепихи, терялась в песках.
— И-и-и-с!
— Что это? — любопытствую я.
— Птица, — отвечает, не поворачивая голову, отец.
— Чибис, — уточняет брат.
— Чибис, — говорит отец, по-прежнему размахивая вожжами. — Чтоб тебя!
Но вот брат спрыгивает с телеги.
— Пойдем, — предлагает он мне, — покажу что-то.
Я перекинул ногу за кузов телеги, собираясь последовать за ним.
— Что заерзали? — ворчит отец.
— Разомнем ноги.
— Через болото? — в голосе отца слышится неприкрытое неудовольствие. — Сидите!
— Разрешите, — просит брат, — мы вас встретим вон там,— он показывает на голубевшую вдали облепиховую стену,— заодно кизяков насобираем.
Кизяки — аргумент неоспоримый, и отец, поколебавшись, разрешает.
Брат бережно опускает меня на землю — я успеваю оглядеть телегу: на дне лежат топор, вилы, веревка, старинный медный кувшин, наполненный догапом — коктейлем из кислого молока и воды, сверток с лепешками, и здесь же — холщовые мешки-капы.
Брат кладет кап на плечо.
А может быть, это было вчера...
Шли мы сазами, ноги тонули в болотной жиже — кл-ю-ут! кл-юут!
— Не отставай, старайся ступать в след, — наставлял брат.
Говорил он еще, чего не припомнишь — будто выпал из памяти звуковой ряд.
Удивительная штука — воспоминание: настоящее — плоский округлый светильник над головой, книжный шкаф, голубая пепельница... дымящая сигарета... — все это вдруг распадается на сотни, нет, тысячи, казалось бы, нематериальных корпускул — миг, другой, исчезают, будто растворившись, "корпускулы" настоящего, и мы — в прошлом.
Мы набрели на островок суши в бесконечных топях...
— Устал? — покосился брат, хлопая меня ладонями по ягодице. — Вперед! Сейчас увидишь что-то...
Мне в "что-то" чудилась загадка, и я ожидал встречи не иначе, как с чудом.
— Иди, — брат положил указательный палец поперек губ — просьба двигаться молча.
Шел, затаив дыхание.
Шаг, еще... Руки брата медленно-медленно перебирали камыш. Я, зачарованный, смотрел на его руки с деформированным ногтем на большом пальце. Камышовая стенка расступалась неохотно. Брат вдруг кивком головы привлек мое внимание к чему-то, казалось, таинственному:
— Смотри!
Предо мной простирался каменистый берег озера. На границе воды и суши лежали огромные плиты из затвердевшего песка и гравия. На камнях покоилась стайка чаек. Волны, ударяясь о крутые бока плит, рождали тысячи брызг. Ничто не беспокоило птиц, они сидели неподвижно, казалось, с крохотной долей мудрости, созерцая окружающий мир!
— Гляди!
За плитами, впритык к ним, тянулся короткий узкий пляж. На побережье пляжи чаще из песка, этот же — галечный.
— Гнездовье, — шепнул брат, многозначительно и загадочно окидывая взглядом пляж. — Внимательно гляди.
Одна из чаек перелетела на камни, и там, где она только что сидела, виднелся темный комочек — птенец. Неподалеку — другое гнездо. И тоже с темным комочком. И еще, еще... Я едва не выбежал в восторге из укрытия, но брат, разгадав мои намерения, убрал руки — камышовый занавес сомкнулся.
— Все... Не станем тревожить, да?
Я согласился, не вполне понимая смысл предложения.
Рубили джерганак* в странном, опаленном лесу...
(*Джерганак – облепиха)
Рубил отец мелкими и частыми ударами, суматошно и нескладно. Он подсекал дерево с нескольких сторон, а затем, сдавливая руками, валил оземь. Иначе действовал брат: пригнув рукою дерево, он другой долго прицеливался, бил с размаху, тяжело и часто, перерубал с первого же раза трех-четырехсантиметровой толщины ствол. Срубив, он, не спеша, поигрывая топором, шел к другому дереву...
Я сидел в телеге, слушая перестукиванье топоров.
— Тк! — бил по дереву брат.
— Тк! — рубил отец.
— Тук! Тук! — слышалось глухо и из соседней рощи.
Вдруг, будто по сговору, смолкло.
На лужайку, где стояла распряженная телега, из соседнего участка вышел чумазый парень в восьмиклинке, с лихим чубчиком под козырьком. На парне холщовая рубашка, штаны из полосатой дерюги, закатанные, как у брата, по колено. Парень с братом присели на оглобли, деловито парень достал кисет, газету, свернутую в гармошку, произнес что-то необязательное, оторвал клочок бумаги, стал обстоятельно мастерить цигарку. Затянулись.
— Скорее бы в армию. Тут не продых... а так хоть по свету помотаешься. Надоело крутить быкам хвосты, — произнес парень.
— Надоело, — согласился брат. Воцарилась пауза.
— Помнишь, как ты меня через спину положил? — произнес вдруг парень.
— Что не помнить, — неохотно ответил брат, втаптывая самокрутку в траву.
— Разомнемся?
Не прошло и минуты, как на поляне началась схватка. Парень, изловчившись, подсек ноги сопернику — тот оказался на земле. Сцепились еще раз. И снова — наверху парень. Мне, уверовавшему в победу брата, стало тоскливо. О нем и говорить нечего.
— М-мо-лодец! С-смотри-ка, молодец! — сказал он. — Видать много каши ел ~ силен...
— Лопаю — не спрашиваю. Как хорошая лошадь — что овес, что солому, что мякину — бара бир, — похвастался парень.
Я оглядел поляну, отыскивая взглядом мерина — тот, спасаясь от оводов, стоял в тени, плотно припав боком к колючкам развесистой облепихи.
— Ничего, набрался силенок, — продолжил брат, затем, переждав паузу, сказал неожиданно: — Детская забава... борьба...
— Как же?
— А так. Сборол — еще не значит сильнее. Вот стукнуться бы, — брат, напустив на себя лихость, посмотрел в упор на собеседника — парень растерялся, заморгал.
— Зачем же?
— Чтобы выяснить, кто больше ел каши, кто солому, кто мякину, — напирал, нащупав слабинку у парня, брат, — хочешь?
— Здесь-то?
— Зайдем за кустик.
— Н-нет, не дело.
— По разику щелкнем по кумполу и разойдемся, как корабли в море, — прямо-таки стал уговаривать брат.
— Ты калганом* боднешь.
(*Калган — голова (жаргон))
— Не буду.
— Охоты никакой — пойду... — парень поднялся, собираясь идти.
— Подожди, подкинь курева.
Парень отсыпал шматок махорки, пошел к себе. И брат, будто сожалея о несостоявшемся бое, тут же покинул лужайку.
Вскоре из леса послышались голоса — это что-то выговаривал отец брату. Застучали снова топоры...
Некая сила тянула меня на галечный пляж. Я покинул поляну, оказался на берегу.
Птицы метались в воздухе, радуясь рыбьей пляске в предзакатье. Озеро притихло; волны, незаметно подступив к кромке плит, тут же — нет, не отступали — исчезали.
Я запустил голыш в воду. Я видел, как это делалось: камень пружинисто подпрыгивал над поверхностью воды под приговорку метателя: "съел собаку, еще съел, еще..." Мой окатыш тяжело плюхнулся в пяти-шести метрах. В момент прикосновения камешка с водой раздался резкий всплеск, и я увидел, вернее, сначала почувствовал, а затем, взглянув на небо, увидел, как птицы всколыхнулись, будто собираясь спикировать на камушек. Однако, быстро почуяв подвох, метнулись прочь. "Померещилась рыба", — сообразил я и, дабы проверить догадку, запустил второй голыш. Повторилось то же самое: чайки встрепенулись, устремились вниз, но тут же опомнились. Метнул еще — не было отныне в чайках ничего, что говорило бы о желании продолжить игру. Более того, в действии их — так кажется мне сейчас — чувствовалось презрение к обману...
Будто время действительно отступило — прошлое встало рядом... и вот я вхожу в него — в прошлое. Передо мной каменный пляж. Для меня, пятилетнего, пляж был подобен терра инкогнито, а мои действия, наверное, похожи на действия астронавта, впервые ступившего на незнакомую планету...
Солнце стоит косо, далеко, сила лучей не столь велика, как в полдень, когда шествие по гальке равно хождению по горячей сковородке.
В глазах пестрит — каких только камней здесь нет!
Серые с темными, розовыми, белыми пятнами, полосатые, ущербные, причудливо изогнутые, обомшелые, обсыпанные солью, большие и маленькие, сплющенные и раздутые — откуда они? И почему они здесь, а там, поодаль — песок — почему?..
Углубившись в размышления, не замечаю, как остро полоснуло воздух над головой. Я поднимаю голову — надо мной летала чайка. Птица, панически крича, набирает высоту...
А вот и чаечье гнездо...
В гнезде — два комочка. Птенцы, прижавшись друг к другу, оцепенело взирают на меня, чудище, закрывшего полнеба. Протягиваю руку — комочки инстинктивно отпрянули. Раздумываю: тронуть птенцов? Рука опускается вниз — птенцы сжимаются. Убираю руку, внимание переносится на другое ~ вижу в гнезде муравья. Муравей из тех, что полчищами обитают в местах сазных. Я знаю: у муравья неприятный укус — правда, известен он не только этим — я видел, как дети постарше втыкали в муравейник намоченные прутья, а затем, очистив их от налипших насекомых, с удовольствием облизывали кислоту. Муравей держит путь прямо на птенцов, торопливо и легко переваливает за горбатый камень, опускается в ложбинку, останавливается и, поводив усами, резко сворачивает, вскоре нырнув в щелочку в камнях.
Краешком глаза замечаю: сбоку, со стороны солнца, на меня несется птица. Приблизившись, она шухнула кончиком крыла по моему виску и устремилась прочь. Я невольно присел. Секунду-другую спустя ринулась вниз, атаковала вторая чайка, следом — еще, еще, еще... В промежутке между нападениями удалось взглянуть на небо: птиц было не менее двадцати; будто обезумев, они поочередно, по две, по три одновременно, но обязательно со всех сторон, устремляются вниз, ниже и ниже придавливая меня к земле.
— Ш-шх! Ш-шх!
Я падаю на спину, одной рукой беспорядочно отбиваясь, другой прикрыв лицо, смотрю между пальцами вверх — не предполагал в птицах такую озлобленность! Сделал попытку привстать, однако, следующий налет вынуждает лечь на землю. Кажется, птицы вот-вот нанесут удар. И тогда...
— Ш-шх! Ш-шх!
Б-брат! — зову я на помощь, но крик, кажется, еще более ожесточил чаек.
— Брат!
— Ш-шх! Ш-шх!
Вскакивая на ноги и что есть мочи, размахивая руками, выкрикиваю:
— Что я сделал плохого?!
— Ш-шх!
— Я не виноват!
— Ш-шх!
— Я не дотронулся до птенцов!
— Ш-шх!
— Честное слово!
— Ш-шх!
Далее следует настоящая пляска — заходили не только руки, но и ноги:
— Ведь ничего плохого не сделал, — выкрикивал я, плача, — ничего. Пусть виноват я! Говорю же: виноват! Простите! Я никогда не приду сюда! Не трону!.. А-а-а!..
А вот и брат — будто одна из чаек спикировала, ударилась о землю, по волшебству оборотясь в него. Брат взял меня на руки и, отмахиваясь палкой от птиц, унес меня прочь.
Мы на песчаном пляже...
Брат раздевается. Я впервые вижу его обнаженным догола, впервые внимательно разглядываю его. Ничего особенного. Разве что голова и шея. Голова у брата большая, округлая, шея короткая. Сейчас, много лет спустя, мне кажется, что он несколько похож на балбала — древнетюркское каменное изваяние. На правой ноге, выше колена, ближе к бедру, у него темнеет большое родимое пятно. Я пытаюсь разглядеть родинку, но брат, заметив это, обрубает:
— Раздевайся.
Раздеться для меня — значит снять рубашку. Потом брат сжал в ладонях голову, под ребрами у него пошло ходуном.
Подошел рыжий парень.
Парень разделся, бросил одежду на песок, подошел к брату, удивился:
— Что закатился?
— Знаем — не скажем, — ответил брат, перейдя от беззвучного к громкому смеху. Он подмигнул мне (мол, не волнуйся — не выдам) и добавил: — Тебе не интересно...
— А ежели хочется посмеяться в компании, — произнес, позевывая, парень.
— Пощекоти себе пятку, — сказал брат, но затем сделался серьезным: — Слушай, ответь...
— Ну?
— Почему носишь крестик?
— Тебе зачем? Привык — не мешает.
— И в армии будешь ходить с крестиком?
— Прикажут, сниму.
— В Бога веруешь...
— Не видел его, сколь хочу... А ты?
— Что я?
— У вас-то свой Бог.
— Глупости, — ответил брат, но после некоторой
паузы добавил: — Никто не видел. Прячется.
— И наш прячется.
— Стесняются, значит...
Искупаться захотел и отец, он раздевался поодаль, остался в кальсонах, в кальсонах же, стесняясь, полез в воду. Но раздумал, сел на каменную плиту.
— А батя верит?
— Как тебе сказать... И верит, и не верит.
— Как так?
— Говорит, Бог — это то, что окружает нас. Природа, значит...
— Как понимать?
— Ты сколько классов одолел?
— Пять.
— Тогда не понять.
— А ты?
— Восемь.
— И в агрономы, — говорит не без зависти парень.
— Не по мне копаться в земле.
— Тогда иди на ветеринара.
— Ну его.
— Я бы пошел. В коневоды двинул. Только поздно, укатила телега, — сказал парень.
— Может, не укатила еще.
— Посчитай: четыре года в армии, а там...
— Что там?
— Обзаводиться семьей — вот что.
— А чего спешить?
— Поспешишь. У мамани я да братан. Ему пять годков. В обрез. Поменьше его, — показал на меня. — Мы втроем, без бати...
— Без бати?..
Так утонул он.
— Постой! На рыбалке что ли?
— Он.
— Как случилось?
— В сетях запутался. Батя, говорят, взял в охапку сети, поскользнулся и — за борт. В сапогах, куфайке...
— А те, на лодке? Товарищи...
— Товарищи, — усмехнулся парень. — Те тоже в сапогах и куфайках. Плавать-то не умели. Пока "ой" да "ай", батя — на дно...
Наступило долгое молчание.
— Вот ты говоришь: "надел крестик", — прервал паузу парень. — Это маманя захомутила. Я — отказываться, говорю, засмеют в школе. — А ты, — говорит, — его под рубашкой носи. Я — наотрез. А как-то проснулся, гляжу — на шее висит.
— Крестик?
— Рядом — маманя. Плачет, говорит: твой батя не верил в Бога, оттого утонул... носи... Так я, чтобы не обидеть. А в Бога еще тогда не верил. Неужели хотелось ему погубить человека? Неужели не мог запретить бате пить водку?
И снова молчание. И снова первым заговорил парень.
— А ты понимаешь, почему природу называют Богом? И вообще, что это — природа?
— Как же! — последовал ответ. — Все... земля, воздух, не... — Брат растерянно осекся.
— Ни черта не понимаешь, — заключил парень. Брат не возразил, он молча смотрел на озеро, углубившись в раздумья.
— А сам твой батя?
Мы повернули головы в сторону озера — отец осторожно, придерживаясь рукой за край плиты, спускался в воду. Он помыл руки, помыл лицо, голову, присел в воду, встал, присел-встал и, завершив на этом процедуру купания, стал карабкаться на плиту.
— Он-то знает, — гордо сказал брат, — башковитый. Я слушал парней и ничего не понимал: что это за боги, которые постоянно прятались и которых никто не видел? Почему прятались? Почему они должны были запретить отцу парня пить водку? Почему они разные? Почему "уехала телега" и что это за телега, о которой так говорил парень? Что за диковинное слово — природа? И почему оно знакомо отцу, который не умел ни писать, ни читать по-русски? И чайки — почему те ведут себя сейчас иначе?.. Вопросы носились в голове, но ни на одном из них я не мог сосредоточить внимание. Мысли — я отлично помню — сбегались и разбегались, разбегались и сбегались, загорались и затухали, шли навстречу и прятались.
Я был во власти странных ассоциаций, опьянен ими.
— Мотает на ус.
— Ага, точно, — вдруг послышалось рядом. Видения рассеялись, и я увидел перед собой брата и рыжего парня, глазевших в упор на меня.
— Чаек испугался, — сказал брат.
— Неужели? — удивился парень. — Зря. Чего бояться — ну, долбанет клювом разик-другой по кумполу — так ведь не смертельно...
Парни вскакивают на ноги, бегут в воду. Плывут поперек небольшого залива. Брат плывет с шиком, на боку, загребая "по-чапаевски" одной рукой. Парень, до этого плывший красиво, без брызг, вразмашку, следуя примеру брата, тоже плывет "по-чапаевски"...
А затем озеро заиграло красками. По краям водного зеркала вспыхнули полосы, окрашенные в светло-розовое, между ними — рваный лоскуток фисташково-зеленого; через минуту-другую розовое преобразовалось в сиренево-желтое, а зеленое — напротив, в розовое, далее озеро вообще стало перламутровым, оно стало переливаться многими красками — синей, розовой, желтой, зеленой, сиреневой, — началось состязание красок. Не выдержав соревнования, начали исчезать сначала синие, зеленые, потом малиновые, розовые, а потом все зеркало озера (и часть неба) стало оранжевым...
Домой возвращались сазами.
Перевалили вал, путь наш лежал по кромке лога и пшеничного поля. Неистово заливались жаворонки, захлебывались перепелки, на сухих и пыльных лощинах вдоль дорог вовсю расходились кузнечики.
Мы сидели на верхотуре воза, впереди с вожжами в руке — отец, далее брат и я. Брат то и дело посмеивался.
— Милые птицы, честное слово! — громко подтрунивал он надо мной.
— Зачем привязался к ребенку — чтоб твой язык... — незлобно выговаривал отец.
Брат обернулся и внимательно взглянул мне в глаза. И не было во взгляде его ни укора, ни насмешки.
— Радость моя бесштанная, — сказал он с материнской нежностью, прижав мою голову к себе. — Уеду через три года в армию, что станет с тобой? Заклюют чайки! Ей-богу заклюют!
3
"ВТОРОЙ ЛЕСОК". В начале мая наступала пора купаться в Приозерье, но тогда же, может днем-другим раньше, подступало другое, не менее радостное для нас время. Пацаны устремлялись в противоположную сторону — в горы. В сырых ложбинах в начале мая созревал сарымсак — дикий чеснок — штука лакомая и сытная. Ходили в горы не только за сарымсаком — в сумки и мешки запихивались и листья пучек. Пучка — так называется по-местному ревень — созревала, вытягивалась в июне, в первой половине его. В мае у пучек наливались, становились кисло-сладкими листья, — их и брали мы, не утерпев. Заодно брали дикий лук, точнее, корни его, нежные, обернутые в многослойную жесткую одежду. А комья коричневой смолы в коре елей — возможно ли, попав в лес, не наколупать ее на жвачки?! А еловые шишки — сувениры младшим братьям?!
Второй лесок тянулся вдоль гребня горы. За горой, неподалеку, в полукилометре, не более, за отшелком, возвышалась знаменитая обвалина; о ней говорили с благоговейным трепетом очевидцы: глубокой ночью тряхнуло — заходила земля, люди выбегали из изб, кое-кто во тьме угодил в разверзь, мигом захлопнувшуюся, взявшую в погибельные тиски человеческую жизнь. В ту ночь раскололась и гора за леском, захоронив стойбище чабанов. Мы, каждый раз попав в лесок, устремлялись на гребень, разделявший южную, солнечную, и северную, теневую, стороны — туда, где солнце, будто лазерным лучом, обрезало лесок. Мы забирались на верхотуру горы, подолгу разглядывали обвалину, пытаясь представить жуткую драму, смахивавшую на судьбу Помпеи. "Помпея" наша доступна была не только обозрению. Насмотревшись издали, мы устремлялись к ней, сбегали по склону врассыпную, спотыкаясь, падая, путаясь в траве, пробирались сквозь заросли барбариса, арчи. Бег заканчивался у грандиозного обрыва, уходившего круто вверх конусами гравия и песка. У основания обвалины, в огромной свалке камня, позже, в июне, на обшелушенной ветром и солнцем земле, высыпали изумрудной сыпью пучки. И тогда хождение в горах совершалось в обратном порядке: начиналось с лазаний в окрестностях обвалины, а заканчивалось во втором леске.
А это — один из военных годов, мне 12 лет...
И сейчас порой чудится свист на рассвете, вслед — короткое:
— До-о-о-дик!
Вскочил с постели, молниеносно оделся, схватил сумку, еду, вылетел во двор.
На улице, за воротами, стояли Жунковский и Садык.
— Ты готов? — спросил Жунковский.
— Какой сон перебили, — сказал я. — Пошли.
— Жратвы захватил? — полюбопытствовал Садык.
— Ага. Вот, — показал я сумку.
— Ходить по горам — не игра в чижики: желудок так закрутит... — продолжал рассудительно Садык, шагая рядом. — Я-то сам без жратвы... так получилось...
Он долго, нудно, жалостливо и лукаво объяснял, почему он сегодня "без жратвы". Его рассказ — шитье черным по белому: то он в спешке запамятовал о еде, то мать не успела испечь лепешки из настоящей пшеничной муки — муку, мол, слишком поздно намололи вчера на жаргылчаке — ручной мельнице. Такого рода оправдания мог за чистую монету принять кто угодно, но только не я. Я знал правду, знал, что Садык врал напропалую, что ничего он не запамятовал, что мать его, конечно, не собиралась печь лепешки — всего этого просто быть не могло, потому что семья Садыка, и это ни для кого не составляло тайны, с множеством маленьких братьев и сестер, жила впроголодь. На свекольной ботве. Лебеде. Джарме-затирухе. Знал я, что пошел он с нами в горы, отпросившись на день у старшего конюха, не из мальчишеской любознательности — его действиями руководил стимул материальный: шел он не за сарымсаком-лакомством, а за сарымсаком-пищей для семьи, шел не с сумочкой, а с мешком; знал я (а вот Жунковский не ведал о том), что в спутники выбрал
нас Садык не из любви к нам, здесь пацаном руководила житейская мудрость: с нами, без слов признавших его лидерство, ему было вольготнее, главное, сытнее, ибо брал я всегда с собой еду на двоих, а Жунковский и того больше. На привалах, соревнуясь, мы давали Садыку лучшие и лакомые кусочки.
— Что жратва! Захватил — хорошо, нет — не помрем, — хитрил Садык, резко свернув на другую тему. — Куда двинем, а? В какой отшелок? В Сысойкин? Валуновский? Или... Напрямик, за мельницу? Куда?
Мы, конечно, отвечали неуверенно, невпопад, что-то вроде того, что хорошо бы заглянуть в дальний, Сысойкин, отшелок, хотя и Валуновский, по словам побывавших там нынче, не плох, а наш отшелок поближе и...
— Хорош, не плох, — передразнил Садык, оправившись от неловкости, испытанной им только что. Теперь он, вскочив "на своего коня", счел возможным приступить к обязанностям ведущего. — Ни черта не петрите! Сысойкин и Валуновский — для дураков. Кому ног не жалко. Я знаю, где сарымсак.
И вел нас прямо к мельницам, и не дальше, не в пятый и шестой лески, манившие, как и все неблизкое, малодоступное, ароматом романтики — нет, Садык начисто лишен поэзии, его деятельная, хотя и не очень-то простая душа искала наивыгоднейшего решения. Вел он нас во второй лесок, что лежал всего в полутора-двух километрах выше верхней, самой дальней мельницы. Зато с первыми лучами солнца — одно дело увидеть восход дома, другое — в горах, где кажется, что солнце не выкатывается, а выжимается таинственными силами из недр земли; в горах особенно ощутима уникальность солнца — и вот с первыми лучами его мы были у цели, на нижней окраине леска...
— Вон сарымсак, — говорил Садык. — Куда уставились? Солнца не видали?
На первой же поляне, на фоне изумрудно-зеленого дымился, голубел сарымсак.
— Устроим хашар, а? Неужели, дураки, не слышали о хашаре? — спросил Садык. — Не слышали? Нет? Чему учат в школе?
Из слов его, путаных, обрывистых, выяснилось: хашар — это когда всем миром приходят на подмогу близким. Предложение использовать правила хашара мы приняли с воодушевлением. Первой наполнилась сарымсаком моя сумка. Затем помогли Жунковскому. Казалось, хашар заработал, набирая обороты. Однако Садык вдруг оставил поляну, повел в глубь леса в маленький каменистый саек, где у ручья, по бокам его, на жирной почве высились крохотные островки сарымсака. И какого?! Сарымсак у ручья был повыше, посочнее, потоварнее; таскать его из жирного чернозема, к тому же из подсыревшего, было одно удовольствие.
— Тут, — произнес Садык. Он раскатал сверток, оказавшийся настоящим мешком; добавил: — Самый раз для хашара.
Собрались обедать, на огромные листы пучек выложили еду. И вот тут, в самом начале трапезы, случилось непредвиденное. Неожиданно преобразился Жунковский, мелко-мелко задрожали пальцы его рук. Такое было с ним не раз, когда он по-настоящему нервничал, и когда Садык, не скрывая удовольствия, первым потянулся за едой, сломал лепешку, со словами "похаваем, дураки, что ли" стал есть, Жунковский вспыхнул.
— Поищи дураков в другом месте! — выпалил он, побледнев.
Садык на секунду-другую обмер, перестал жевать, уставился на Жунковского.
— Ты что? — произнес он изумленно.
— А то, что нечестно, — сказал Жунковский.
— Я нечестный? — не понял Садык.
— Ты! И все это... Хашар твой!
— Я?
— Ты!
— Я?
— Ты!
— Ведь могу, пацан, намылить за такие слова.
— Ты! — не сдавался Жунковский.
— Пацан, возьми слова назад! — вскочил на ноги Садык.
Поднялся на ноги и Жунковский. Я поспешно встал между ними, но Садык отстранил меня в сторону, да так, что, не удержавшись, я плюхнулся в куст арчи. Поднявшись, увидел: Садык и Жунковский стояли лицом к лицу. Контраст был очевиден: по одну сторону, с трудом сдерживая в себе ярость, стоял могучий Садык, по другую — длинношеистый, миниатюрненький Жунковский; Садык был облачен в штаны с живописными заплатками, Жунковский — в аккуратненькие шорты и в чистую рубашку; Садык стоял, приняв надменную позу, Жунковский — этаким петушком со стиснутыми кулачками.
— Берешь, пацан, слова назад? — продолжал Садык.
— Ты! Ты! Ты!
— Считаю до десяти, — предупреждал Садык, почему-то взглянув на меня, на обед, аппетитно разложенный на траве, — раз, два, три...
— Двадцать, тридцать, пятьдесят, — дерзко передразнил Жунковский, — до тысячи считай — не ударишь!
— Не ударю? — удивился Садык.
— Нет!
Садык медленно извлек из карманов руки.
— Двести, триста, четыреста, — смеялся сквозь слезу Жунковский. — Ну, бей!
Я видел, как сжимались ладони Садыка в кулаки — казалось, они вот-вот обрушатся на Жунковского. Я знал силу и мощь его кулаков (сколько они сокрушали на моих глазах!); неотвратимость драки, точнее, избиения, пугали, но кулаки Садыка, готовые заработать сумасшедшей мельницей, вдруг стали разжиматься.
— Ладно, — смилостивился он. — Прощаю.
— Без "ладно" — бей!
— Ладно, говорю, — обрезал Садык и, обернувшись ко мне, сказал полугрозно, полужалостливо: — Думаешь, струсил... Пацанят не бью — жалко... — Демонстрируя безразличие, он смачно зевнул. — В животе — фокстрот: как хотите, а я похаваю.
Как ни в чем не бывало, Садык принялся есть. Присоединился к нему и я.
Жунковский обедать наотрез отказался.
— Поколупаю серы,— сказал он мне и двинулся в лесок.
"Неужто, — думал я, — Садык не решился на драку из-за боязни остаться без обеда? А мешок? Сколько напихано — не то, что тащить — сдвинуть с места одному не под силу? Наверняка попросит помощи — тащить, как пить дать, придется гамузом. Откажись мы с Жунковским помочь, как-то ему управиться тогда с мешком?.. Нет, не выгодно драться Садыку!.."
Непонятным было и то, как быстро осекся Жунковский. И тут почудилась корысть: Садык обещал на днях взять нас в ночное. Оставалось дело за малым — обговорить просьбу со старшим конюхом; тот, по словам Садыка, ни в чем ему не отказывал. "Что, если Жунковский отступил, вспомнив о предстоящей вылазке с Садыком в ночное? — думал я. — Какой ему прок от ссоры?"
Поев, Садык дал храпака. Он спал, бормоча вслух ругательства — уж не с Жунковским ли выяснял во сне отношения?
Я двинулся в лесок, думал, встречу Жунковского разобиженного, а может быть, даже и плачущего, но обернулось иначе: еловая шишка сверху стукнула мне о спину, одновременно раздался голос смеющегося Жункового — сидел он верхом на суку ели, как ни в чем не бывало, весело колупая серу.
У меня спали нехорошие раздумья. А Садык и вовсе, казалось, не придал значения ссоре. Он, как и прежде, верховодил, сыпал двух— и трехэтажным матом, чувствовал себя "в своей тарелке". Правда, под вечер, на привале, у арыка (мешок его и в самом деле привелось тащить втроем!), когда, уметая последний ломоть хлеба, мы перебирали детали дня, Садык преобразился в этакого мужика, задавленного житейским опытом, часть которого он, Садык, мог бы безвоздмездно, по-братски, отделить салажне, то есть мне и Жунковскому.
— Ты говоришь, я нечестный, — обратился он к Жунковскому. — Ладно. Нечестный. А ты? Ты честный? А он? — кивок в мою сторону.
— Назови хоть одного честного, — не дав опомниться, продолжал он. — То-то. Честность днем с огнем не сыщешь.
— А на фронте там?! — Жунковский едва не вскочил на ноги, радуясь удачному возражению.
— А наши бойцы? — поддержал я. — Тоже нечестные?
— Бойцы? — протянул Садык ошеломленно. — То другое дело. Я про здешнюю жизнь говорю... — и, возможно, сочтя за благо завершить спор, он вдруг молитвенно сложил лодочкой ладонь, зашевелил губами, что-то шепча. Я последовал примеру.
Конечно, ни на зернышко не верилось, что Садык мог правильно произнести хотя бы слово из корана — несомненно, нес несусветную чушь. Однако, очевидное его преображение — из многоопытного мужика в богомольца — мы приняли как нечто разумеющееся.
Потряс Жунковский другим. Машинально, но, возможно, из-за соображения солидарности, он принял участие в пата — молитве-благодарению всевышнему за трапезу — сложил ладони лодочкой, да так уморительно, что я, не удержавшись, закатился в смехе.
— Накажет Бог, — пообещал мне, прервав пата, Садык. — За неуважение накажет. Он капыр*, — Садык ткнул в грудь Жунковского, — а с головой. А тебя накажет Бог — как можно смеяться во время молитвы? Неуважение это. Не только ко мне, — заключил он безжалостно, — неуважение к богу... Оминь.
(*Капыр — немусульманин)
ГЛАВА II. СОЛЬ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
1
ПАРОХОД "СОВЕТСКАЯ КИРГИЗИЯ" ... Обстоятельства часто сильнее воли: собирался написать сценарий об умельце-пржевальчанине, ехал к нему на неделю, но случилось непредвиденное, отчего пришлось через пару дней рвать назад, так и не свидевшись с замечательным умельцем, В поездке испарилась прежняя идея — то, что я написал в конце концов, уже не имело касательства к умельцу.
И еще незапланированный перекос в той командировке. Предстояло ехать из Рыбачьего в Пржевальск — 200 километров с небольшим. Никакого транспортного голода. Два маршрута — северным и южным берегом. Автобус в условиях Приозерья, да еще в преддверии зимы — единственное верное средство для путешествий, а привелось добираться на пароходе. Казалось, без всякой на то нужды — на пароходе в тысяча девятьсот семьдесят шестом — не смешно ли!..
В Рыбачье я приехал вечером. Переночевав, утром, в поисках хорошего завтрака, отправился в железнодорожную столовую, которая, не в пример другим общепитовским заведениям, предлагала здесь нехитрые, но зато вполне съедобные обеды.
Столовая возвышалась на песчаном валу, неподалеку от зеленых бугров, напоминающих старые мусульманские могилы. В конце тридцатых годов бугры являли обыкновенные дюны. Среди них, на окраине поселка, у кромки дороги, мы с матерью ловили попутку — с этих дюн началось такое, что заглушило размышления об умельце, позвало на местную пристань...
Поплутав по шпалам, глиняным переулкам, вдоль строений с плоскими крышами, прогуливаясь по приозерской улице, я очутился на пристани. На причале стояли приземистые баржи. На территории пристани громоздились штабеля с мешками, ящиками. Взад-вперед вдоль причала, перетаскивая тюки, ходил кран.
Я стоял перед небольшим пароходом "Советская Киргизия". Что-то в душе сломалось. "Что-то" — это, легенда, сотворенная некогда детским воображением. Жунковский прав: каким действительно гигантом казалась нам "Советская Киргизия"! С каким восторгом мы смотрели, как она гордо проплывала мимо, чтобы затем медленно, темным пятнышком, исчезнуть за горизонтом!.. Берег у Карповки плоский, мелкий, илистый, поэтому суда не рисковали, плыли в отдалении. Однако расстояния — не преграда пылкой мальчишеской любознательности. О кораблях местной флотилии знали мы неплохо. "Комсомол" — этот обрубок-тягач? Но "Комсомол", вопреки невзрачному облику, слыл непревзойденным трудягой. За "Комсомолом" всегда тянулся хвост из барж, а то и просто бревен, собранных в длинную, казалось, бесконечную шеренгу плотов. "Комсомол" перевозил лесину с южного побережья в Рыбачье, отсюда груз по железной дороге отсылался на запад. На худой конец, "Комсомол" волок на буксире кого-то из собратьев, обязательно громадину, тихоходного неуклюжего динозавра, такого, как "Тянь-Шань". Или "Труд". Правда, не припомню, чтобы "Советская Киргизия" шла на буксире у "Комсомола".
"Советская Киргизия" — флагман флотилии — была построена местной судоремонтной мастерской. Перед спуском на воду, будто наверху засомневались, показалось маловероятным, что небольшая, но довольно высокая, окованная сталью конструкция выдержит серьезные непогодные напасти. Пароход выглядел неустойчивым, казалось, что он, едва соприкоснувшись с водой, огромной гирей пойдет ко дну. Инженеру, автору проекта, было предъявлено обвинение в умышленном отходе от норм, обеспечивающих безопасность судна. И что же? Ко дну пошел создатель парохода, а вот "Советская Киргизия", вопреки мрачным прогнозам, выжила, ей оказалось нипочем кипение страстей, она устояла перед натисками бурь. Более того, пароход за короткий срок завоевал репутацию лучшего судна в Приозерье.
2
Я застал пароход в конце его погрузки. Кран, опустив в трюм тюк с чем-то тяжелым, стал отъезжать.
— Лег в тютельку? — прокричал наверху с борта мужчина.
— Ладно, — ответил негромко стоявший неподалеку от меня на пирсе человек в теплой куртке, в фуражке водника.
— Не понял! — выкрикнул снова мужчина наверху.
— Нормально, говорю.
— Задраивать?
— Подожди, гляну...
Капитан — а это был он, — направляясь к трапу, обернулся, взглянул на меня:
— Вам кого?
— Собственно никого, — сказал я, но, набравшись смелости, затем выпалил: — Позвольте на минутку подняться на корабль?
— На корабль, — усмехнулся капитан. — Какая надобность, если не секрет?
— Да так. Считайте обыкновенным любопытством. Хочется взглянуть...
Капитан секунду-другую смотрел на меня так, как смотрит врач на клиента, у которого вдруг проклюнулись признаки невменяемости.
— Любопытство... если дело обстоит так, — произнес он, посерьезнев. — Что ж!
Мы поднялись на палубу. Капитан с матросом заговорили о деталях погрузки. Я стоял у борта, и, всматриваясь в мешанину серой воды, серого неба и всего того пасмурного окружающего, невольно прислушивался к беседе водников.
— Пойдет, — сказал капитан, заглянув в нутро судна.
— Легло плотно, — согласился матрос. — Задраивать?
— Давай... Скоро закрутит, — сказал затем капитан, вглядываясь в небо.
— Что закрутит? — вмешался в беседу я.
— Его величество улан — здешний ветер. Придется идти в шторм.
— А что, штормы здесь настоящие?
— Нарочные, — усмехнулся беззлобно капитан. — Вы впервые здесь?
— Я уроженец Приозерья.
— Тогда почему спрашиваете?
— Море с берега кажется другим.
— Море, — сказал он, соглашаясь. — И мы называем морем. Улан такое выкинет — душа вместе с потрохами выворачивается наружу. Ноябрь — начало штормов. Испытайте здешние штормы — и вопросы отпадут: настоящие или не настоящие.
— Рад испытать, — подхватил я. — Возьмете? Так иль иначе добираться до Пржевальска...
Капитан, не ожидая такого оборота дела, надолго задумался, затем, маскируя подозрение, полюбопытствовал:
— Журналист, что ли? Статью закатите? Мол, море стонало и пело.
— Не журналист я.
— Ну, писатель.
— Мимо. Сценарист.
— В такую погоду? Не могу взять в толк — ни к чему это.
— Жаль, — бросил я, хотя чувствовал другое: с "Советской Киргизии" как-то разом спало романтическое облако. "Артельское суденышко", — думал я, испытывая нечто похожее на грусть.
Мы расстались.
Капитан направился к себе, в каюту.
— Товарищ! — окрик сверху застал меня сбегающим по трапу с судна. Знакомый матрос стоял, облокотившись о поручни.
— Сюда, наверх, — предложил он и, когда я послушно поднялся, сказал: — Велено передать: вам разрешено. Через полчаса снимаемся — так что без опоздания. Вы с багажом?
Я показал портфель:
— Это все.
— Не раздумали? Нет?
Матрос провел меня в жилой отсек — узкий и короткий коридор, с каютами по обе стороны, с капитанской, каютой главного механика, еще не то двумя, не то тремя каютами для остальных членов экипажа; в глубине коридора находились два крохотных помещения — кухня и столовая. Двери в столовую, распахнутые широко, оказались напротив моей каюты, и я, устраиваясь, успел увидеть там двух женщин: девушку в брюках и форменной куртке, рядом с ней, вполоборота ко мне, сидела пожилая женщина. Они громко беседовали. Первые же обрывки диалога: "Слушай — верно говорю" и обрывисто-вопросительное "Мама!" — указали на родство собеседниц. Увидев меня, женщины замолчали.
— Устраивайтесь. Койка не понадобится, — сказал матрос.
Он вышел; тут же его окликнула девушка:
— Замир!
Женщина громко полюбопытствовала.
— Писатель, — послышался голос Замира. — Какой? Не успел познакомиться. Говорят, киношник...
Так волей случая я попал на борт "Советской Киргизии", сидел за столиком в тесной каюте, глядел в иллюминатор, слушал удары волн о корпус судна — вживался в новое, в то, что должно пусть ненадолго, какую-нибудь половину суток, на время рейса, стать частью моей жизни.
Минуту-другую спустя в мою каюту ворвался смерч. Вернее два смерча — мать и дочь.
— Извините, я на минутку, — бросила с порога мать. — Вы от кино? Наверное, о "Советской Киргизии" собираетесь писать? Правильно! Давно следовало!
— Мама! — взмолилась дочь.— Пожалуйста, поспокойнее.
— Лучше поздно, чем никогда! — восклицала мать. Она порывисто поцеловала мою руку. — Спасибо, молодой человек! Меня расспросите — такое расскажу! Про корабль! Запишите — я ведь его, как родной дом, знаю...
"Смерчи" подхватили меня: в руках невесть как появились блокнот и ручка — пошла катавасия: мать рассказывала, дочь увещевала, я строчил в блокнот, не заботясь о чистописании. Минута, другая, третья... еще, еще... Стоп!
— Через пять минут, мамаша, снимаемся, — напомнил Замир, и мать, спохватившись, устремилась вон. Я глядел в иллюминатор на женщину — та не по возрасту лихо сбежала по трапу, укрывшись от ветра за штабелем из тюков, прикурила, переложила авоську с продуктами, а когда пароход стал отчаливать, не то мне, не то дочери, не то судну что-то выкрикнула. Я сунул блокнот в портфель, не догадываясь, что записи в матросской каюте отмагнитят идею об умельце, что на их основе я напишу сценарий фильма о "Советской Киргизии", который уже в следующем году покажут по ЦТ, что записи эти всколыхнут затаенное, более глубокое и существенное... Я иногда возвращаюсь к записям, вглядываясь в строчки, вкось-вкривь, вроде: "Военные годы — Адволодкин...", "Знает Адволодкина...", "Матросом...", "Пшеница... лес из Жыргалчака..." ,"Штормы..." — вглядываюсь, возвращаюсь в матросскую каюту, к торопливому страстному монологу женщины. "Пишите! Капитаном в войну назначили Адволодкина — какой человек! Лучшего капитана не встречала ни до него, ни, — извините, — Соня, прикрой дверь, — ни после. Любил корабль, команду. И не мягкий — наоборот, скорее строгий, по голове не погладит. Работе всего себя отдавал. Сколько рейсов пережили — не счесть!
Казалось, рейс как рейс, а присмотришься, сколько в каждом из них своего, непохожего. Ходили с грузом в любую погоду. Пишите, пишите... Тридцать пять лет проработала, а из них двадцать пять на "Советской Киргизии"…
А потом "Советская Киргизия", набирая скорость, зарываясь в волну, шла на восток, навстречу первому снегопаду осенью того года.
Мы с капитаном прогулялись по шаткой палубе, спустились в машинное отделение, тесное, как и все здесь. Запечатлелось случайное: по столу, обитому с краев рейкой, метались округлые стальные предметы. Запомнился и короткий диалог по этому поводу между капитаном и механиком.
— Что это?
— Да так, игрушка.
Капитан не принял всерьез ответ. А я почему-то сразу поверил в искренность слов механика, позже, в столовой, думал: "Мужики, а сколько детскости!" Капитан вычитывал бумаги с цифрами, не теряя нить беседы со мной. На кухне громко говорили девушка и Замир.
— Это кто? – спрашивала девушка озорно. — "На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она". Кто автор?
— Разве все упомнишь? Знакомые слова — это да...
— У тебя ни воображения, ни памяти, — смеялась девушка. — Вот картошку — молоток! — научился чистить на пять.
— Предположим, не только картошку, — отвечал Замир, намекая на достоинства, безусловно, более значительные, чем воображение, эрудиция, знание и понимание поэзии и тем более умение чистить картошку.
Капитан, наверное, догадавшись, что беседа на кухне раздваивает внимание гостя — говорил о нынешних делах "Советской Киргизии", содержании рейсов, коллективе, планах, подробностях реализации планов, о социалистических обязательствах и о их реализации, о рабочем климате на пароходстве, о роли климата в системе народного хозяйства, области вообще — словом, разговор складывался серьезный, и капитан, увидев мое состояние, то, как изредка я, бросал взгляды на перегородку, отделявшую столовую от кухни, не утерпел и то ли цыкнул, то ли позвал, а когда вошла девушка, смягчился, произнес:
— Лучше бы организовала кофейку, Сонечка. Девушка вскоре вернулась, разлила дымящийся кофе, сказала:
— Рано что-то пожаловала зима.
Мы обернулись к иллюминатору, будто желая увериться в справедливости сказанного. На цыпочках из кухни мимо нас проскользнул Замир. Углубившись в свое, принялись за кофе. Что-то в девушке промелькнуло знакомое — стал невольно перебирать в памяти.
— Девчонка недавно к нам пришла. После техникума. И уже решила уйти, — первым прервал паузу капитан. — И знаете ли, правильное решение: море — дело сугубо мужское. Да и в техникуме, надо полагать, учили не кулинарному искусству. Она намерена, слышал, податься в педагогический институт — потому и мучает ребят стихами, заметили? А в море уговорила ее мама. Серафима Устиновна. Тетя Сима. Живая реликвия нашего Приозерного пароходства. — Капитан сдержанно улыбнулся. — Шутка ли! Четверть века проработала на "Советской Киргизии".
Капитан рассказывал, а я слушал, думал о девчонке-матросе, прикидывал: "Стало быть, рыбачинская. Коренная. Видеть ее мог разве что в Рыбачьем — но возможно ли такое, если здесь, в Рыбачьем, бываю только проездами с получасовой остановкой экспресса на автовокзале..."
— Оставлю вас: извините — служба. Надумаете выйти на воздух, поберегитесь: скользко — чего проще оступиться...
Капитан вышел.
Снегопад приутих, предсказание о шторме не сбылось, я чувствовал себя, вопреки ожиданию, неплохо. А ведь в пути пробыли около четырех часов — значит, где-то в темно-серой полосе, проявившейся слева по ходу, находилась Карповка. Так сказать, отчий дом. Долго вглядывался, пытаясь в темно-серой массе увидеть желтое пятно-обвалину, но то ли из-за тумана, то ли из-за надвигавшихся сумерек усмотреть его в горах не удалось...
3
Утром следующего дня я проснулся в гостинице в хорошем настроении, не догадываясь, что не пройдет и часа, как автобус-экспресс помчит меня назад, из Пржевальска, домой. Случилось вот что.
— Ваша фамилия Исмаилов: — поинтересовалась девушка, хотя для этого было достаточно заглянуть в гостевой журнал. — Зовут Даудом?
— А что?
Дежурная смутилась, взглянула на женщину-коллегу, во взгляде ее читалось: "Точно — он... " Произнесла:
— Забыли сказать вам о телеграмме.
— Кому телеграмма?
— Вам.
— Где она?
— Телеграмма была, сейчас ее нет. Вчера вечером прибыла. С опережением. Вы-то явились в гостиницу позже.
— Что с телеграммой?
— Вернули.
— Куда?
— На телеграф, конечно. Разносчику. Возвратили за отсутствием адресата. В суете забыли сказать, такая толпа командированных нахлынула ночью, — пожаловалась она, затем произнесла смело: — Если интересует текст...
— Вспомните, пожалуйста.
— Всего-то несколько слов, — она посмотрела на товарку: — Скажи человеку.
Та отказалась, и тогда дежурная почему-то написала текст телеграммы, протянула бумагу мне. Но я, и не читая, по тому, как действовала дежурная, по ее намекам и полунамекам, уже догадывался о неприятностях. И — точно: жена телеграфировала об исчезновении племянника — приемного сына. "Двое суток нет сына, — сообщала телеграмма. — Выезжай срочно..."
— Особенно не берите в голову. Найдется, — утешала на прощанье дежурная, возвращая паспорт и расчетную квитанцию. — Дети есть дети.
С тем я и рванул на автостанцию, втиснулся в автобус, минуту-другую спустя мчался по центральной улице города, вдоль шеренги куцых состарившихся тополей, строений разных сортов и времен, приземистых, глиняных с дувалами довоенной поры, современных из бетона и стекла, уникальной мечети, почти невесомой, с легкой колоннадой, ажурным антаблементом и причудливо изогнутыми карнизами — проплывало то, что в иное время являлось бы прекрасной пищей для размышлений, ассоциаций; не будь телеграммы, не исключено, я сейчас держал бы путь по этой улице, думал о тополях, пытаясь найти связующее между ними и искусством народного умельца, изделия которого — миниатюры из дерева и композиции из кореньев — приводилось видеть на одной из экспозиций в столице... Ничего этого не было — глядел я в окно невидящим глазом, думал об исчезновении племянника: недоразумение? Факт? А что, если кто-то попросту разыгрывает меня? Розыгрыш? Ой ли?..
"РАХМАНОВ-ФУТБОЛИСТ"... Рахманов – во весь рост, пузо подтянуто, рот в улыбке до ушей, под мышкой — футбольный мяч, трусы до колен, футболка с литерой "Д" — именно таким он предстал предо мной полтора года назад после долгих лет разлуки... Невероятно, что все это время мы жили, не ведая, что живем чуть ли не бок о бок в одном городе...
Встретились мы на заводском стадионе, куда я забрел от нечего делать, случайно. С мороженым в руках сидел я у тоннеля — из него неторопливо выходили участники предстоящего матча ветеранов.
Одна из команд встала в кружок внизу, подо мной, игроки принялись громко обговаривать предстоящую игру.
Унылое зрелище — состязание ветеранов: люди с брюшками, лысинами и сединами, на часок-другой пожелавшие вернуться в молодость, вызывают чувство, смахивающее на жалость. Я поднялся, собираясь уйти со стадиона — но что это?
Насторожили голоса:
— Садд, не отвлекайся, слушай... — говорил худощавый мужчина кому-то.
Саид? Ведь так звали Рахманова. Всплыло в памяти, будто с того света: "Саид, куда намерен идти со своими?.." "Свои" — наш класс, за ним во время традиционной весенней экскурсии в горы поручалось присматривать Рахманову...
— Следи за Потапом, — продолжал худощавый. — Потап — хитрый, вынернет из-за спины... обманет...
"Потап" — известный в прошлом футболист Потапов из команды мастеров второй лиги, правый защитник. До сих пор в памяти его длинные, "по желобку", рейды, вносившие сумятицу на половине поля соперников; помню хлесткие прострелы Потапа в штрафную, редкие фирменные голы, которые он заколачивал под дальнее от вратаря перекрестье ворот из-за штрафной!
— Потап? — произнес знакомым рахмановским голоском игрок, стоящий ко мне спиной. — Почему следить за ним? Я обязан забивать, а не бегать за Потапом — без детского сада! Потапу впору ходить с бадиком*...
(*Бадик — трость (жаргон))
"С бадиком" — слово стопроцентно карповское — утвердило меня в догадке: "Да, Рахманов!"
— Не скажи...
— Не забью — пусть отрежут правую ударную ногу! — поклялся Рахманов и, словно желая окончательно рассеять мои сомнения, встал боком, обозначив свой орлиный профиль.
— Все равно, присматривай, — говорил худощавый, сдаваясь. — Не лезь без оглядки. А вот "семерка" — да, игрок в лапту, ноль с хвостиком, иди через него...
Игроки сфотографировались на память и затрусили к центральному кругу. С первых минут игры стало ясно, что Рахманов сделает все, чтобы исполнить "страшную" клятву. Он лез в гущу игроков, дважды "мотнул", оставив за спиной "ноль с хвостиком" — проделал финт по-рахмановски, красиво подыграв мяч пяткой, — "игрок в лапту" остался позади. Спустя минуту-другую "мотнул" еще и снова успешно. В игре Рахманова я с пристрастием искал только удачное: он дал отменный пас по диагонали точно на выход... сыграл в стенку... выбрал хитрую позицию у ворот... Но вот — увы! — он медленно, поигрывая мячом, двинулся на Потапа — Потап среагировал, выбросил ногу, огромную жердину — незадачливый форвард, споткнувшись, плюхнулся оземь. Рахманов довольно тяжело поднимался, но затем изящно, полусогнувшись и держась обеими руками за колено, долго стоял в нарочито-созерцательной позе, всем видом подчеркивая удивление по поводу костоломной игры соперника. Потап того и ожидал: заполучив мяч, он виновато обозрел лежащего Рахманова, рванул вперед. Вколотил он мяч в условиях вольготных: успел войти в штрафную площадку соперника, там в одиночестве переложил мяч под ударную ногу. Гол получился далеко не фирменный: мяч, медленно описав дугу, вошел в створ ворот неподалеку от стойки ворот. Протяни правую ногу вратарь — обошлось бы, но в том-то и дело, что тот с хриплым криком "Беру!" сделал шаг в другую сторону и... споткнулся. Болельщики захохотали.
— Он и раньше брал, — сказал кто-то ядовито. Отныне я смотрел на игру бывшего физрука иначе, замечая, как ни удивительно, в его игре главным образом просчеты: не попал по мячу... отдал мяч в ноги сопернику — ошибки следовали одна за другой. Главный ляп случился в конце матча, когда судья назначил пенальти. Рахманов решил пробить одиннадцатиметровый. "Решил" — не то слово: сразу после свистка арбитра он с мячом под мышкой без колебаний двинул к одиннадцатиметровой отметке, установил мяч, отошел на добрых десять метров для разбега, постучал носком правой ноги оземь, словно отлаживая какие-то невидимые пружины. Но как красиво в его исполнении не выглядел футбольный ритуал, меня почему-то ни на секунду не покидало предчувствие неудачи. Я отвернулся, но, не утерпев, снова взглянул на штрафную и увидел Рахманова в той же позе: правая нога отставлена чуточку назад, взгляд устремлен на ворота. Я видел в Карповке пенальти по-рахмановски. Бил он всегда бесхитростно: мощный разбег — удар напропалую. Теперь же, приблизившись к мячу, он вдруг притормозил, сделал легкий замах и тихонечко толкнул — мяч, прокатившись, ударился о руки распластавшегося на кочковатой земле вратаря — тот всей массой тела навалился на мяч и долго лежал, прижав его руками.
Словом, нет ничего печальней матчей ветеранов! Потеха! Намаявшись, футболисты возвращались с поля. Рахманов взглянул наверх, в мою сторону, я хотел его окликнуть, но не успел...
Я дождался его у входа на стадион. Он протянул руку и сказал коротко вместо приветствия:
— Все видел?
Произнес так, словно расстались мы с ним несколько минут назад.
~ Что скажешь о матче? — поинтересовался он. — Помнишь, как с "десяткой" закрутили защитника? Во-во! Попутал дьявол, завелся, — глаза светились печалью, — обязан был пасовать!
— Мелочь.
— Нет, дорогой, жжет здесь, — Рахманов ткнул себя в грудь. — Да что говорить! — он махнул рукой, собрался идти, спохватился: — Откуда ты?
Узнав, что я в городе давно, удивился:
— Киношник? Придется познакомиться с тобой заново. — Он дурашливо вытянулся в струнку, сделал грудь колесом, протянул руку: Рахманов!
4
И — вот.
— Присаживайся. Сюда. Ближе к окну, — приговаривал Рахманов, усаживая меня в кресло в маленькой комнатке, не то передней, не то приемной, потому что из комнатки двери вели в другие помещения, одна — прямо, в кабинет замначальника районного отделения милиции, на что указывала табличка на дверях; двери по обе стороны от кабинета замначальника не помечены, но, судя по тому, как приостанавливались милиционеры, прежде чем открыть их, было ясно, что и там располагались кабинеты начальства.
Женщина-лейтенант, отстучав на машинке, с бумагами в руках вышла из комнаты. Мы остались вдвоем.
— Разное случается: человек попал в лужу — задачка, в трясину — другая задача, в дерьме — еще задача. В такое дерьмо, что противно и думать. Так вот, — Рахманов присел рядом, подвинул к себе газету — еженедельник "Футбол", извлек из кармана карандаш с погрызанным концом, на полях газеты прочертил линию. — Наши охламоны угодили в лужу, — он сделал ударение на "наши". "Охламонами" он называл моего племянника и его приятеля Мустафу. — Не в трясину. И слава Богу. Не в дерьмо — в лу-жу! Разница существенная, дорогой. Вытаскивать из лужи — мой профессиональный долг. И независимо от того, кто в нее влип. Друг или недруг. Брат или... всадник без головы.
А меня подмывало спросить: кража была? Если да — какая? Нет — что тогда?
— Придется тащить из лужи — тут сомнений никаких, — продолжал Рахманов, черкнул на полях "Футбола" линию, параллельную предыдущей.
Рахманов будто готовил меня к чему-то серьезному, безусловно, не безнадежному. Но за этим чудилось обращенное и к себе, вроде: твое намерение помочь земляку капельку противоречит букве закона, но зато оно отвечает его духу — так вперед, майор! "Независимо, кто угодил, друг или недруг..." — яснее не скажешь!
Ну да, конечно. В другой ситуации, не такой напряженной, я, пожалуй, поразмышлял бы над природой рахмановской классификации преступлений, сейчас же беспокоило другое. Рахманов рассказывал, черкая на полях газеты странные для непосвященного закорюки — две параллельные линии вкось-вкривь, четырехугольнички по обе стороны линий, не то трапеции, не то пятиугольник. Внутри одной трапеции-пятиугольника возник малюсенький прямоугольник. Казалось, рукой его двигало подспудное, то, что не обязательно синхронно и соответственно работе мозга: бывает, говоришь одно, а рука, не соглашаясь, водит по бумаге, изображая другое. Рахманов надписал фигуры на рисунке. Сокращенно. Чаще аббревиатурой. ТР — означало, конечно, стадион "Трудовые резервы", УК — улица Коммунаров и т. д. Обозначился план знакомого района в городе: стадион, территория новостройки с котлованом и полем неподалеку от стадиона, у входа на стадион — общепитовский лоток... Рахманов умел в потоке фраз и слов упрятать главное, чтобы затем в нужный момент — неважн
о, в середине иль в конце — извлечь его, подобно трепещущей рыбке. Он умел рассказывать коротко и длинно, с прелюдией иль без, мог лаконично изложить большое и, напротив, растянуть мизерное. Слушал я его с удовольствием. Особенно о футболе — вот где Рахманов заводился! — о любимом московском "Динамо", великом футболисте Численко (о том, как тот необыкновенно ловко перехитрил итальянца Факетти: Численко двинулся, казалось, напропалую в лоб итальянца, сблизившись, лениво повернул назад, а затем, усыпив бдительность, вдруг резко развернулся и молнией промчался мимо опешившего вконец знаменитого стоппера). Я сказал "особенно о футболе", но "особенно" не вполне точно. Дело в том, что Рахманов, если и говорил со мной (общения в отроческие годы не в счет), то только о футболе — будто все в мире жило и дышало потому, что существовала такая знаменитая игра — футбол. Футбол — непременная тема наших бесед. За исключением, кажется, в этой, в передней комнате РОВД, где номер "Футбола" на столе смахивал на извинение за нарушение традиции... Впрочем, припоминаю, дважды или трижды речь шла о житье-бытье в городе, и в рассказе Рахманова о себе не нашлось места футболу. И еще раз ему не привелось излить мне футбольную душу. То — случай особый, тогда я встретил его в облике... забулдыги. С "забулдыгой"-Рахмановым столкнулся я в подворотне бойкого гастронома. Рахманов с приятелем, таким же небритым и пропитым, разгружал рефрежератор. Ящики с курами, колбасой на металлических тележках свозились в нутро гастронома. Помню, как вспыхнуло недоумение в смеси с жалостью, любопытством и стыдом: "Грузчик? Недавно, год — ну, полтора — назад блистал в форме майора милиции — неужто разжаловали?! За что?!" "Забулдыга"-Рахманов, приметив меня у витрины, в очереди за дифицитным, изменился в лице, встал рядом и, опережая очевидные вопросы, заговорил первым.
— Заруби: мы не знакомы! Разъяснения потом. И не здесь, — выпалил он тихо, но вдруг, наверное, из-за моего прозрачно-топорного кивка на его "заруби", изменился и продолжил заговорщически, явно рассчитывая на слух продавщицы, подозрительно косившейся на нас: — Не более двух килограммов! Больше не могу. Попробую. Давайте... Деньги, говорю, давайте...
Он перепоручил тележку напарнику, а сам вихляющее-кокетливой походкой направился за витрину. Вскоре он вернулся и, протягивая мне сверток с колбасой, шепотом произнес:
— Подыграй!
Я протянул, не таясь, две трехрублевки и по тому, как у него блеснули благодарно и понимающе глаза, понял, что попал в "игру". Рахманов переложил купюру из ладони в ладонь.
— Смажем тачки, — сказал он громко. И добавил, вытянувшись по-швейковски: — Разрешите отчалить, начальник!
Потом, застав его снова в милицейских регалиях, я вспомнил детали "игры" в гастрономе. Рахманов стоял в салоне троллейбуса, приняв невозмутимо-величественную позу. Он обрадовался встрече, стряхнул строгость, положил руку мне на плечо: "Инженер человеческих душ, растолкуй, что такое "не везет" и как с ним бороться". Подумалось тогда, что сказал он вполушутку-вполусерьез в связи с "игрой" в гастрономе. Сокрушался Рахманов, однако, по поводу иному. Дело в том, что прошедшей ночью ему служебные обстоятельства помешали увидеть трансляцию — конечно! — футбольного матча. И какую! Прямую! Заполуночную! Внепрограммную — стало быть и уникальную по спортивной значимости. Бедный майор метался в газике, как на горячей сковороде, остро тоскуя по озеровскому пафосу... Мы проехали вместе несколько остановок. Рахманов покинул троллейбус, не обмолвившись и словом об операции в гастрономе. "Не от того ли, — думал я, — что игра еще не закончилась? Или майор не удовлетворен собой? Не захотел вводить меня в профессиональную кухню, напичканную тайнами похлеще? Что — если футбол для него подобен створкам моллюска? И каждый раз, когда речь заходит о сокровенном, створки захлопываются?.."
Происшествие с племянником привнесло в отношения с Рахмановым новое. Байки о футболе испарились. Ситуация исключала несерьезность в любой форме. Я несколько тяготился затянувшейся прелюдией. А эти закорюки на полях газеты — свежий номер "Футбола" на столе — створка с жестким замком, готовая защелкнуться в любую секунду.
— Твоему охламону уйти из дома и вовсе не составляет задачи: хлопнул дверью и — до свидания... Спрашиваешь, почему?
— Почему?
— Не терпелось вкусить соли взрослой жизни. Соль в его возрасте, в 14 лет, кажется сладкой, будущее – в розовом облаке. И действительно: на первых порах все идет, дорогой, как по маслу, — говорит он, плотнее подбираясь к главному...
5
Я не во всем согласен с Рахмановым. Племянник с легким сердцем ушел из дома? В памяти почему-то живо стояла недавняя беседа с ним — состоялась она минутой-другой спустя после того, как я обнаружил его спящим в заброшенном вагоне. Мы присели на скамейку — хотелось остудить не на шутку распалившиеся эмоции...
"Я обиделся, папа, на тебя", — сказал он коротко.
Ничего подобного, как ни силился, я не смог припомнить. Разве что несколько профилактических "банек" по поводу удручающей учебы в школе.
"Вспомни".
Или... Мне не понравились его чрезмерные увлечения современными ВИА, этими "криденсами", "свитами", "пудисами", "смоками", "самоцветами" — квартира сотрясалась от выкриков рок-звезд, грохота ударных.
"Ты сказал, что у меня нет тормозов. Что во мне сидит тунеядец, чудовищный пожиратель чужого добра..."
Пожалуй, я примирился бы с его музыкальными увлечениями — я не против рок-музыки, если она не противостоит учебе в школе.
"Попрекнул дармовым хлебом..."
"Но разве другие отчитывают иначе? — думал я, слушая тогда сбивчивые оправдания племянника, однако следующая мысль не соглашалась с первой: — Пацан! В его возрасте почудится и не такое!.."
Я, помнится, поставил себя на место племянника, попытался влезть в его душу. В действенности этой в общем нехитрой операции, которая осуществлялась с помощью воображения, правда, воображения тренированного, я убеждался не раз: чтобы понять душу другого человека, нужно поставить себя на его место — древняя, но не потерявшая силы и по сей день мудрость. Куда как просто; я влезаю в шкуру племянника, и вот уже не он, а я извлекаю из конверта сверхсовременный диск. Гром и молнию в чистом небе! Не он — я нетерпеливо завожу проигрыватель; громкость, конечно, максимальная — комната взрывается, такое впечатление, что все вовлекается в сумасшедшую вакханалию. Какая-то сила опускает тебя в кресло, помимо воли, поднимает на ноги — не он, а я встаю и сажусь, сажусь и встаю, вскакиваю и опускаюсь, не он, а я вхожу в ритм, становлюсь его частью, потому что ритм вне тебя ничто, не он, а я растворяюсь в музыке: музыка — во мне, я — в ней. Но что это? Нечто окунает в ледяную ванну, выбивает потрясение музыкой. "Нечто" — мой отец — нет, мне неведома семейная тайна (я не знаю, что мне он приводится не отцом, а дядей). Поспешно "вырубаю" проигрыватель — сжимаюсь, врастаю в кресло, инстинктивно пытаясь уберечься от стрел упреков. Я-де бездеятелен, легкомыслен, несамостоятелен — он-де, отец, в моем возрасте пахал — ел свой хлеб. Я, его сын, дармоед, не в состоянии прожить самостоятельно и дня. Что дня? Часа!..
Не согласен, майор! "Легко хлопнул дверью?" Неужели? А "ледяная ванна", попреки хлебом — неужто этого недостаточно, чтобы сорваться, "хлопнуть дверью"?! А ведь нам с тобой не высидеть в такой "ванне" и минуту! Тогда, ночью на скамейке, в сквере, я сказал себе: неважный педагог ты, Дауд Исмаилов, не тебе с твоей дикой манерой рубить с плеча, привычкой подпрыгивать в гневе, с пулеметной скоростью выкрикивая упреки, с твоими топорными методами лезть в душу подростка! Так примерно мог бы я возразить Рахманову. Но было не до возражений. Слушал я молча, глядел, как карандаш его двинулся от прямоугольника, обозначенного "поч." вдоль двойной полосы, завернул к трапеции и остановился у крохотного прямоугольника на краю овалоподобной закорюки. "Поч." — почта, двойная полоса — проспект, трапеция — территория стройки, овалоподобная закорюка — котлован, прямоугольничек — ну, конечно, это вагон строителей, пристанище "охламонов" — здесь три дня назад обнаружил я племянника спящим, отсюда двинули с ним в городской сквер, на скамейку под карагачом...
Подумалось вдруг: "Знаешь ли, майор, что "охламон" приводится мне племянником, сыном моей старшей сестры, той, что не решилась вторично после развода выйти замуж с "довеском", что некогда комочек плоти, розовое и бессловесное существо, взиравшее на мир незамутненно, странно, и называвшийся племянником, был усыновлен мной и стал называться сыном?.. Что нам он и в самом деле стал сыном, а мы ему — отцом и матерью?.." Я следил за действиями Рахманова, за тем, как он несколько нажал "твой охламон", и по тому, как весело забегали при этом его глаза, казалось, что он догадывается о семейной тайне. "Если знает — хорошо или плохо?" — думал я, но затем, когда майор, закончив топографические упражнения на полях газеты, сделал паузу, я увидел на его лице нечто, погасившее мгновенно мои подозрения.
— Ребятам везет, — сказал, поразмыслив, он. — И Мустафе. И твоему. Познакомились — отлично: двоим веселее. Через час они уже друзья — не разлей водой. Кров — пожалуйста. У Мустафы припасено на ужин и на завтрак. Пожелай только — посыпется и манна с небес. Везения настроили на легкую волну — родилась инерция, я бы сказал, опасная инерция вседоступности, вседозволенности. Не будь этого настроя, не было бы...
"Кражи" — мысленно продолжал я. Вспомнилось: племянник выбежал из дома — на лестничной площадке за стеной слышалась быстрая дробь шагов. Потом стихло. Вскоре меня поглотили думы о предстоящей командировке в Приозерье, я сидел в кресле автобуса, целиком поглощенный размышлениями о предстоящем сценарии.
— Слушай, — сказал Рахманов. — Сладив ночлег, охламоны подались на поиски курева. И сразу на пути ларек. Встреться добрая душа с сигаретой — гляди и обошлось бы. Тут — ларек. Скособоченный — накануне пытались перетащить его на бойкое место, не осилив, перенесли затею на завтра. Ларек выглядел почти пустым. "Почти" — блок сигарет "Комуз", с десяток плиток шоколада, прикрытых небрежно газетой, выглядели вещами забытыми — тем, чем не очень-то дорожат — ну, мелочи в бесхозном ларьке. Два подростка в бегах, встретившись ночью впервые, вряд ли станут с ходу упражняться в познаниях по школьной программе, а вот продемонстрировать принадлежность улице, умению ладить с неписаными противозаконными правилами уличной братии — пожалуйста. Тут своя логика: начнешь с выяснения тонкостей школьной программы, а новоиспеченный друг, не исключено, окажется бывалым — и возьмет и хлопнет по лбу. Так не выгоднее ли, не дожидаясь, предстать самому в маске бывалого — сбросить с себя маску при надобности проще. Тут — и мальчишеская удаль: приятель взобрался на дерево — взберусь — чем я хуже. Выше: тот скатился с горки — так я скачусь с горы, ударил — пну. Это не все. Ты осматривал ларек?
Я отрицательно покачал головой.
— Щель в стекле рамы, — Рахманов опустился на стул напротив, — смахивала на приглашение: риска никакого — бери! "А вот курево!" — так сказал твой, углядев блок с сигаретами. И сказал, конечно, голосом бывалого. И понеслось. Мустафа берет выше — ему-то не резон отставать — переусердствует, ломает и вовсе стекло — задача упрощается: просовывайся по грудь и бери. Так и поступили. Твой рассказывал о трофеях?
— Да.
— Интересно, что? — Рахманов подвинул номер "Футбола". — Пиши сюда.
На полях "Футбола" появились расчеты: 17 пачек сигарет по 30 коп. — 5 руб. 10 коп.; 13 плиток шоколада "Соевые" по 1 руб. — 13 руб. Итого — 18 руб. 10 коп.
— Точно, — согласился Рахманов, — сговор исключен. Впрочем сговориться о 17 пачках сигарет и 13 плитках шоколада, конечно, нетрудно, мол, скажем, взяли столько-то и столько. Но ответь: как возможно сходу уговориться о калькуляции добычи с десятками, сотнями непредсказуемых нюансов? Тебе известно, что ребята одаривали сигаретами и шоколадом знакомых?
— Рассказывал.
— В деталях?
— Конечно.
— Почему "конечно"?
Я пришел в замешательство.
— В принципе так и должно быть, — успокоил Рахманов. — Хотя, не вникая в подробности, я с самого начала не сомневался в искренности признаний ребят. Глаза у них больно телячьи. Но копаться нужно — доказывать-то придется не себе только — верно?
— Да.
— Что "да"? — поинтересовался Рахманов, но тут же, забыв о вопросе, продолжал: — Пришлось перетряхнуть всех гавриков.
— Гавриков?
— Имею в виду причастных к происшествию.
— И что же?
— Надеюсь, дорогой, многое касательно трофеев прояснилось. Ребята не лгали. Показания совпадают. И в частности, и в общем получается одна и та же сумма, — Рахманов сделал многозначительную паузу, — 18 р., 10 к. — он так и сказал "р" и "к". — Таковы размеры кражи.
— Кражи? — вырвалось у меня.
Рахманов не ответил, сделал долгую паузу, но на лице его читалось: "Прими как есть".
— Таковы действительные размеры кражи, — повторил он.
— А что, есть другие предположения?
— Как и в другом любом деле, — он встал. — Задержись. Кое-что покажу, — он сунул мне номер "Футбола". – Поможет скоротать время.
Рахманов вышел.
Листая газету, я то и дело уходил в размышления о происшествии, пытаясь угадать об уготовленном для меня Рахмановым "кое-что", — конечно, сюрпризе, имевшем отношение к происшествию.
Вернулась женщина-лейтенант. Не одна — рядом с нею ковылял старичок в колпаке. Лейтенант усадила аксакала, достала из папки бумагу и, изредка зыркая на меня ("А у этого беседа с майором затянулась..."), стала что-то втолковывать аксакалу. Слух улавливал обрывки фраз. "Разберусь, папаша. Писать следует поподробнее", — говорила лейтенант. "Подробнее не напишешь", — почему-то раздраженно отвечал аксакал.
Лейтенант смахивала на девушку из "Советской Киргизии": одного примерно возраста, обе заняты делом мужским, та — матрос, эта — милиционер, та — в тельняшке и кепке, эта — в милицейском берете, лихо нахлобученном на голову — во всем этом ощущалось подчеркнуто-гордое. Мысль, следуя еще неясной логике, перенесла меня в Приозерье: я увидел себя в матросской каюте, в обществе двух "смерчей" — матери и дочери... Старшая, выражая непонятную признательность, порывисто целовала мою руку... Младшая кого-то напоминала, тогда я пытался вспомнить, кого — все тщетно. И вот в РОВД, слушая разговор лейтенанта с настырным аксакалом, я неожиданно вспомнил георгиевскую пристань военной поры, на борту "Советской Киргизии" — женщину в тельняшке. Женщина пыталась сдержать напиравшую людскую стихию. "Назад! Назад!" — в отчаянии "пароходная тетя" старалась перекричать толпу... Конечно же, младшая в каюте напоминала женщину в тельняшке. "Значит, Серафима Устиновна и женщина в тельняшке — одно лицо! Ведь как просто! — думал я, — в каюте я интервьюировал знаменитую "Пароходную Тетю"! Серафима Устиновна — Пароходная Тетя!
6
Отсюда, со второго этажа, двор РОВД — как на ладони. На территорию въезжали и выезжали милицейские машины. По ту сторону двора, вдоль длинного одноэтажного строения прошествовал взвод милиционеров-курсантов. Курсанты скорее всего попали сюда впервые — чувствовалось это по тому, как многие из них, любопытствуя, завертели головами. Разглядывая происходящее во дворе, я почему-то подумал о Пароходной Тете — то было несколько минут, когда грустные размышления о племяннике стали затихать.
Рука Рахманова легла на плечо:
— Читай, — он протянул вдвое сложенный листок бумаги — заявление лоточницы в милицию.
— 17 блоков "Комуза" (51 руб. 00 коп.), — читал я вслух, падая духом. ~ 20 блоков "ВТ" (100 руб.)...
— Ну, ну, дальше.
— 21 плитка шоколада "Соевые" (21 руб.).
— Итого?
— Трудно поверить.
— Мне почему-то на язык просится другое слово — стерва! Хочешь знать, почему? — но Рахманов не стал ожидать ответа. — С ходу не скажу. Вот встречусь с ней, попробую разобраться. Рубану с ходу: "Почему? Не многовато ли, сеньора?" Посмотрю внимательно в глаза.
Вот так, — он, пародируя себя, смешно и долго взглянул на меня, — предложу не ломать комедию. Так и скажу: "Перестаньте ломать комедию!.." Призову к благоразумию. Оставить на ночь в дырявой коробке блоки дефицитнейшего "ВТ"?! Да его во всем городе с огнем не сыскать! Не к лицу, скажу, вводить в заблуждение милицию. Некрасиво путать жанры. Трагедию с комедией. Дай-ка шпаргалку. Рахманов нахмурился. От шутливого тона не осталось и следа:
— Сто семьдесят два рубля — не фунт изюма. Преувеличено — это очевидно.
— Что толкнуло ее на это?
— Подлость, — ответил Рахманов. — И не все ли равно, Додик, что движет подлостью — жадность, стремление нажиться или что-то похлеще. Знала ведь, что расплачиваться придется пацанам — ан, нет, спокойненько, не задумываясь, толкнула в пропасть.
Казалось, что его убежденность в том, что ребята попали в "лужу", а не в "трясину", держалось не только на вере в чистосердечное признание тех — думалось, что Рахманов располагал чем-то более важным, думалось, что он откопал какой-то существенный факт в пользу ребят и до поры до времени таил в себе, не рискуя оглашать.
Убежденность Рахманова передалась и мне. Теперь и я, уверенный в лживости заявления лоточницы, полагал, что ребята угодили в "лужу" и что выбираться из нее, задача, к счастью, посильная.
— Это — цветочек в букете дерьма. Но ближе к делу, — говорил Рахманов. — Мы попросим забрать заявление, — он потряс бумажкой, — вернем должок — 18 р. 10 к. и ни копейки, повторяю, ни копейки сверхположенного. Почему мы поступили так, а не иначе? Отвечаю. Потому, дорогой, что огласка ребятам абсолютно ни к чему — охламоны, — он сделал паузу, — только-только начинают жить. Не прав я? Ну, да, конечно, с чего бы тебе возражать мне — ведь ты, дорогой писака, лицо заинтересованное.
Мы с Рахмановым остались одни. Женщина-лейтенант и желчный аксакал исчезли. Вот так: стояли перед глазами и исчезли, а я по инерции говорил тихо, полушепотом.
— Предположим, она забрала заявление, — я взглянул вопросительно на собеседника.
— Тогда дело закрывается. Ребята отделываются испугом.
— А если не захочет?
— Кто? Чего?
— Лоточница. Забрать заявление.
— Исключается, — сказал Рахманов. — Она не настолько глупа, чтобы оставлять в милиции липу — не в ее интересах это. Впрочем, поживем — увидим...
ГЛАВА III. ПОБЕГ
1
"ЗА КИЗЯКАМИ". Мы с Жунковским возвращались домой с мешками, набитыми кизяками. Завернули в лог. В одном из ответвлений лога, неподалеку от заброшенной избушки, увидели человека — тот сидел, подбрасывая в костер сучья. Человек, услышав за спиной шум, обернулся. Секунду-другую глядел на нас настороженно. Впрочем, тревога тут же исчезла, и незнакомец — а это был пацан, примерно наших лет, — продолжил свое занятие. Мы, согнувшись под тяжестью мешков, замерли у костра. Пацан извлек из золы несколько картофелин, обжигаясь, стал есть.
— Ну, что уставились? — произнес он, усиленно дуя на картофелину.— В ногах правды нет, не слышали? Подсаживайтесь или... мотайте своей дорогой.
Мы опустили мешки на землю, переглянулись, присели.
— Налетайте, — пацан подвинул дымящиеся картофелины. За день мы успели по-настоящему проголодаться. А тут — картошка! Пацан вытащил из горячей золы еще несколько клубней.
— Вкусно, — сказал он, не то спрашивая, не то утверждая, и, не дождавшись ответа, добавил: — Ворованные.
Я на миг заколебался, Жунковский, тот даже отдернул руку, будто уколовшись об острое.
— Смотри, — усмехнулся пацан, — задело, значит, сытые. Что выкатил фары? Не приходилось шамать ворованные?
Я устыдился, неуверенно взял клубень, обжегся, перекинул несколько раз с ладони на ладонь.
— А ты, чистюля? — пацан повернулся к Жунковскому — тот сидел, устремив взгляд куда-то в сторону. — Шамай! Бесплатное!
— Я не чистюля, — робко огрызнулся Жунковский.
— Разве у ворованного вкус отличается от неворованного? — полюбопытствовал пацан.
Жунковский растерялся, робко взял картофелину.
— Там ее куча, — пацан показал наверх, за склон лога, где располагались картофельные поля. Он пристально посмотрел на Жунковского, задержав взгляд на сорочке, на шортах — Жунковскии смахивал на городского мальчишку довоенных лет из благополучной семьи, и только облупленный нос, цыпки на ногах делали его схожим со здешними пацанами. На незнакомце висело нечто среднее между халатом и плащом; захудалось халата-плаща, пятна грязи на лице, шее, руках и ногах — все говорило, что пацан бродяжничал.
— Давайте знакомиться, — предложил пацан. Он вытер руку о халат-плащ. — Вы здешние?
— Ага.
— Я так и подумал. Ромка.
Назвал себя и я, следом, поколебавшись, покраснев,— Жунковскии.
— А в мешках что?
— Кизяки.
— А это? — Ромка показал на стебель сурепки, торчавший за пазухой у меня. — Шамовка?
Мы, очистив кожуру со стебля, угостили его, дружно захрумкали.
— Этого дерьма сколько хочешь, — заключил Ромка, — не пережуешь всего.
Но сурепка все же ему понравилась, похвалил он и чымылдык — маленький сладкий клубень.
— Ты откуда? — осмелился спросить Жунковский.
— Из войны, — сказал Ромка, не задумываясь.
С тех пор, казалось, минула вечность, а в памяти из потаенных глубин, нет-нет да и чиркнет Ромкино "из войны". Произнес бы мужчина, бывалый солдат — дело другое, но в том-то и речь, что сказано было пацаном.
— Где живешь?
— Везде, — увидев на наших лицах нечто среднее между удивлением, недоумением и завистью, Ромка уточнил: — Где придется.
Потом вытащил перочинный нож, предложил сыграть в "ножичка", ловко подбросил нож — тот вертикально вонзился в землю, бросил еще — и снова удача, еще, еще... Приложил острие ножа к локтю, крутнул пальцем по тыльной части рукоятки — нож, описав дугу, вонзился в землю, еще, еще. Нож пошел по кругу.
— Сегодняшние мои аппартаменты, — щегольнул Ромка, нажав на "аппартаменты".
— Что? Как? — заволновался я.
Жунковский, изготовившись крутнуть ножичек с колена, замер в ожидании ответа.
— Значит, спальная комната, — Ромка небрежно показал примятую охапку сена под развесистым кустом шиповника.
— Не страшно.
— Это пусть нашего брата побаиваются.
— Ночью жутковато одному...
Ромка всем телом подался в сторону, сплюнул, от резкого движения распахнулся борт халата, обнажив голое тело, давно не знавшее мыла « он смутился, поспешно закутался, голос предательски задрожал.
— На спор — могу переночевать на кладбище! — он протянул мне руку.
Спорить ни я, ни Жунковский не стали, потому что не было и капельки сомнения в храбрости и решимости пацана.
Он завязал нож за веревочку изнутри халата.
— Мы принесем тебе поесть, — сказал Жунковский.
— Шамовку, — козырнул я.
— Тащите, если не жалко, — согласился Ромка и, чуточку переждав, добавил на прощание: — Я знаю место на побережье, там кизяков — пропасть. Покажу.
В словах его почудилось неуклюже упрятанное: "Пацаны, мне с вами хорошо — не оставляйте, Бога ради, загляните..."
2
В тот же вечер, не утерпев, мы рванули в лог. Ромки в "аппартаментах" не оказалось. Мы поднялись на кромку лога. Вязкая мгла зубчатыми краями на севере упиралась в небо, вызывая ощущение материальности: казалось, она медленно и неукротимо полезла на восток, увлекая за собой нас, смертных. Со стороны озера доносилось прерывистое и едва слышное "ш-ш-ш" — там сталкивались и умирали волны — тьма казалась одушевленной.
— Ромка! — позвал Жунковский. Прислушались — тихо.
— Ромка! — выкрикнули снова. И будто в ответ откуда-то снизу раздался громкий, короткий плач ребенка. Стало жутковато. Напряжение усиливало прерывистое пение деркача. Неподалеку затрещали кусты — казалось, у избушки начинался шабаш нечистых сил. Мы сжали друг другу руки.
— Что это? — спросил я, плохо скрывая страх. — Не пойму, — прошептал Жунковский.
— Страшно?
— Кто-то плакал.
— А может, мерещится. Сходим — посмотрим?
— Пошли.
Держась за руки, мы двинулись вниз. Жунковский, подавляя страх, тихонько стал напевать — я поддержал его; получился забавный дуэт. От избушки исходили, казалось, невидимые притягательные силы. Мы были в десяти-пятнадцати шагах от нее, когда тишину снова разорвал душераздирающий плач ребенка. Не сговариваясь, мы присели под кустом барбариса. Плач повторился еще и еще. Из оцепенения нас вывел голос Ромки.
— Пацаны! — окликнул он негромко.
Мы вздрогнули, почудилось: голос раздавался из избушки и имел что-то общее со странными звуками.
— Пацаны, сюда, ко мне... — Ромка вынырнул прямо перед носом, он привел нас в "аппартаменты", усадил на ворох сена.
— Бегал за кукурузой. Ночью вернее. Только приловчился — слышу, кричат. Не ждал вас сегодня, думал, потрепались языками — ну и ладно.
— Держи, — я протянул сверток с харчем.
— Тебе, — протянул узелочек Жунковский.
— Что вы! — искренне смутился Ромка. — Штаны, что ли? И рубашка! Спасибо...
Мы рассказали о таинственных звуках.
— Испугались? — рассмеялся Ромка.— Так то кошки! Слышите? — Послышался знакомый плач.— Хотите посмотреть? — Ромка потянул нас за рукав. — Идемте!
Мы с опаской пошли к избушке, какие-то тени мелькнули в пустых оконных проемах. Румка чиркнул спичкой, и мы увидели на груде хлама, рядом с полуразрушенной печкой, сгрудившихся котят.
— Насмотрелись! Пошли назад!
Одичавшие кошки в заброшенной избушке стали темой долгой беседы. Ромка подробно рассказал о жизни небольшой кошачьей колонии: он жил здесь с неделю — времени этого оказалось достаточно, чтобы вникнуть в мир лога, оказавшегося богатым событиями, чего мы с Жунковским не подозревали. Первые же минуты общения с ним прогнали всяческие страхи.
Ромка предложил переночевать вместе с ним.
На юго-востоке поднялся молодой серп луны, залив лог дымчатым светом. Ничего подобного раньше не приходилось испытывать: я впервые ночевал в поле — да еще с кем! С беспризорником, человеком "из войны" — это что-то значило!
Городок, в котором жил Ромка с родителями, в первые же дни войны попал в огневую коловерть. Ромкин отец работал на железнодорожной станции; через нее непрерывно в разные стороны шли поезда с вооружением, солдатами, эвакуированными в тыл людьми. Немецкие самолеты бомбили станцию. Ромка видел вывороченные с корнем, со шпалами, рельсы, их необходимо было тут же укладывать — этим и занимались особые бригады, руководимые его отцом.
Во время очередного аврала над станцией на бреющем полете пронеслись "мессеры". Люди бросились под вагоны...
— Я принес шамовку, — рассказывал Ромка. — Послала мама. Сбегай, говорит, отнеси отцу. Скажи ему, что собираемся в дорогу. Пусть вырвется проститься с нами...
Утром фрицы такое учинили... На рельсах уйма людей с ломами, лопатами, тачками. И отец тут же. Выслушал меня, обнял, поцеловал и сказал: "Езжайте подальше от беды. Матери передай: не могу и на секунду отойти..."
Взяв узелок с едой, только принялся есть, а тут отовсюду крики: "Воздух! Воздух!" Люди залегли на шпалы. Отец заорал: "Ложись за тачку!" Толкнул — я головой под тачку. Он на меня сверху. "Придавил ты меня, папа!" — сказал я ему после налета. А он молчит. Будто бы прикорнул. Выбрался, дотронулся рукой и... как закричу: "Папа!!!"
Подбежали на крик люди. Один из них мне говорит: поезжай, тебя заждались. А мы все сделаем по чести. Слезами горю не поможешь. Иди к матери..." С тем я бегом домой. Дрожу, в глазах слезы. "Что с тобой? — спрашивает мама. — Не стряслось ли чего?" — "Ничего не случилось", ~ отвечаю. "Не похоже, — говорит мама. — Отчего плакал?" — "Да, забыл сказать, — начинаю хитрить. — "Мессеры" обстреляли станцию. Я от страха..."
— "Как отец?" — "У него дел по горло, мама, — отвечаю я. — Отец останется". "Жив? — спрашивает. "Жив", — говорю. "Не договариваешь что-то, сынок..." Пришлось поклясться. А тут подкатили машины. Схватили что попало и в кузов. Шофер к тому же поторапливал: "Скорей! Скорей! Берите самое необходимое! Надо проскочить мост, не дай Бог, — говорит,— разнесут его раньше срока немцы..." Ну, и поехали. На земле осталась уйма барахла. Ехали и все думали про мост. Подъехали — он целый, переехали через него, а потом и через лес за мостом. Ехали мы уже по степи, а впереди на холмах виднелся другой лес. На краю леса дома — значит, соседняя станция. Тут нагнали фашистские самолеты, летевшие бомбить станцию. Машины остановились. "В балку! Живо!" — послышалась команда. Люди попрыгали на землю, стали разбегаться. Мама завозилась со старушкой, соседкой по дому, была такая, ходила, считай, на четвереньках. Мама взяла старушку за руку, та валится и выкрикивает: "Оставьте! Оставьте!.." Самолеты проскочили. Нас рассадили — детей собрали в одну машину, будто бы лучшую. И только устроились — над головой снова загудело...
За одну ночь Ромка стал безусловным нашим верховодом: целые дни мы коротали вместе...
3
Насобирав кизяки, мы лежали, загорая, на пляже. По раскаленной поверхности песка сновали розовые муравьи. Ромка, казалось, подремывал, прикрыв голову руками. Мы с Жунковским тешились игрой с муравьем. Обрушивали на насекомого сухой песок — муравей исчезал в песке, но ненадолго, не проходило и минуты, как он появлялся наверху. Мы лениво возвращали его на прежнее место и снова засыпали песком, с той лишь разницей, что теперь поверх сыпали горсть-другую песка больше. Мы ставили насекомому задачи одна сложнее другой — последующая насыпь-холмик превышала предыдущую – муравей каждый раз выбирался наверх. Правда, времени на очередное испытание он затрачивал все больше и больше…
(ВНИМАНИЕ! Выше приведено начало романа)
Скачать полный текст в формате MS Word, 1700 Kb
© Ибрагимов И.М., 2000. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения автора
Количество просмотров: 3360 |


