Главная / Критика и литературоведение, Литературоведческие работы / Научные публикации, История
© КРСУ, 2006
Статья публикуется с разрешения КРСУ
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата публикации на сайте: 16 сентября 2011 года
Почему застрелился Фадеев
Версия
Наиболее убедительная версия самоубийства в 1956 году выдающегося советского писателя и общественного деятеля, председателя Союза писателей СССР (1946-1954), члена ЦК КПСС Александра Фадеева.
Публикуется по книге: Чабыт / Порыв: Литературный альманах. Вып. III. – Бишкек: КРСУ, 2006. – 217 с. Тираж 150 экз.
УДК 82/821
ББК 84 Ки7-4
Ч-12
ISBN 9967-05-228-7
Ч 4702300100-06
Редколлегия: В.М. Плоских, М.А. Рудов, Л.В. Тарасова
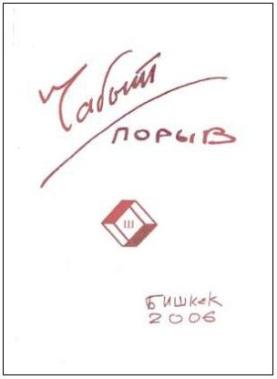
«История не знает настоящей литературы и искусства, которые создавались бы по директивам власти с требованием проводить в художественном творчестве определенное и притом официальное мировоззрение. Это всегда было смертельно для всякого искусства».
Н.А. Бердяев
I
Теоретизировать о природе самоубийств – занятие в высшей степени рискованное, поскольку тема, к которой мы прикасаемся, весьма деликатного свойства и принадлежит она, в силу своей специфики, по преимуществу к области предположений и догадок. «Начнем с главного, – остерегал Б.Л. Пастернак. – Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству»1. И с этим трудно не согласиться. Как, впрочем, и с тем, что самоубийство часто «не там, где его видят, и длится оно не спуск курка»2.
Когда в известном возрасте смерть из области теоретической переходит в практическую – это одно. И совсем другое – когда предел естественному течению жизни наступает не в согласии с природой, а, напротив, вопреки ей. Тут человек посягает на право, ему не принадлежащее: давать и отнимать жизнь. Не потому ли христианская церковь испокон веку осуждает эту дерзость, почитая ее самым тяжким грехом, и воспрещала хоронить самоубийц рядом с теми, кто ушел из жизни, смиренно исчерпав ресурс, дарованный природой.
Но есть, и наверное, должна быть разница в состоянии духа казнимого палачом и казнящего себя по умыслу. Впрочем, послушаем рассуждения на этот счет Б.Л. Пастернака: «...Человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен, впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем, и если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут помочь ему. Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась»3.
Мотивы самоубийств, даже при всей их подчас очевидной внешней похожести, всегда очень индивидуальны4.
Что подвигло Фадеева наложить на себя руки? Что стоит за этим самоубийством? Тени каких неведомых и невидимых стороннему глазу мировых катастроф приблизили тот роковой предел? Самодостаточность ли знания жизни, исчерпанность ли опыта, когда интерес ко всяким другим побудительным мотивам жить угасает, и тогда, как считает Л.Я. Гинзбург, «проходит философский ужас» перед неотвратимостью смерти и «остаются реакции почти физические». «Странно, – продолжает Л.Я. Гинзбург, – но мне всегда было легче узнать о самоубийстве человека, чем о любой другой форме смерти. Только самоубийцу она не тащит на привязи, как быка на бойню. Только он одолел тайну судьбы... Если бы только знать за собой эту силу, эту возможность, можно ведь жить не боясь ничего – болезней, беспомощности, деградации, самой смерти. Достоевский уже сказал это Кирилловым: перестанем бояться и будем как боги... Ну а как же страдания, которые довели человека? – спрашивает Гинзбург. И отвечает: – Страдания – это из области жизни и это вопросы другого ряда»5.
Трагический финал триумфального восхождения Александра Фадеева не имеет ничего или почти ничего общего с римским самоубийством 86-летней Л. Брик, о котором рассуждает Гинзбург. Его мотивы далеки и от кирилловского «будем как боги».
Но, может быть, роковыми для Фадеева оказались именно «вопросы другого ряда»? Может быть, это они сняли тот самый «философский ужас» перед насильственной смертью, в результате чего и сама эта смерть стала неотвратимой прозаической реальностью – избавлением и искуплением одновременно? Почему, наконец, решение уйти из жизни Фадеев, уже однажды намеревавшийся убить себя, принял именно в 1956-м – не раньше и не позже? Может быть, груз неразрешенных и неразрешимых вопросов «из области жизни», которые всё настойчивее и неотвратимее требовали прямых и честных ответов, стал к тому времени уже настолько непомерным, превысившим допустимую «критическую массу», что жить с ним, с этим грузом, носить это в себе стало невыносимо, а найти – пусть для себя (и, наверное, в первую очередь для себя) – ответы сколько-нибудь удовлетворительные, способные помочь, если не оправдать и оправдаться, то хотя бы перевести дух и попытаться отыскать нравственную опору – не удавалось, и всё труднее становилось жить, потому что все другие побудительные мотивы продолжать существование утратили смысл?
Но так ли это в случае с Фадеевым?
Так – и не так.
Можно, конечно, как это в свое время сделал академик А.С. Бушмин, сослаться на очевидные «затруднения», связанные с литературным творчеством, с «обострившейся болезнью», и осторожно предположить, что эти «затруднения» «усилились теми непредвиденными осложнениями, которые вызывались переменами, происходившими в самой жизни»6. И это будет правда. Как правда и то, что многие «непредвиденные осложнения», случившиеся к лету 1956 года, Фадеев предвидел, и сам объяснил еще в ноябре 1944-го в письме к Маргарите Алигер. «Бог дал мне душу, способную видеть, понимать, чувствовать добро, счастье, жизнь, – писал Фадеев, – но постоянно увлекаемый волнами жизни, не умеющий ограничивать себя, подчиняться велению разума, я, вместо того чтобы передать людям это жизненное и доброе, в собственной жизни – стихийной, суетной – довожу это жизненное и доброе до его противоположности и, легко ранимый, с совестью мытаря, слабый особенно тогда, когда чувствую себя виноватым, в итоге только мучаюсь, и каюсь, и лишаюсь последнего душевного равновесия...»7
Это – лишь короткая цитата из очень пространного письма. Кажется, редкий случай: Фадеев не лицемерит. Но, увы, это только кажется. Он по-прежнему нежно любит себя и жалеет. И не говорит всей правды. Дальше в этом же письме он пишет Алигер о том, что «любому человеку», с которым сводила его судьба, он «по характеру своему отдавал всего себя, не щадя сил, беззаветно, во всю силу души и таланта, безжалостно сжигая себя с двух концов, с безграничной щедростью души»8 и т.д., и т.п.
«Не беремся судить, насколько удачен этот самоанализ», – осторожно обронил по поводу этого письма А.С. Бушмин9. Хотя, конечно же, уж он-то знал, что Фадеев был весьма разборчив в выборе тех, кому «отдавал всего себя... с безграничной щедростью души». Впрочем, у нас еще будет повод вернуться к этой очень непростой и деликатной теме.
Едва ли случайно в жизни Фадеева последним стал именно 1956 год. Вспомним: если репутация автора «Разгрома» как писателя не претерпела сколько-нибудь радикальных перемен даже после крушения мифа о художественных достоинствах «Молодой гвардии», то собственно человеческий облик Фадеева в общественном сознании послесталинской эпохи начал стремительно тускнеть. Причин для этого открылось более чем достаточно. Главную, как нам представ¬ляется, достаточно убедительно обозначил Д.М. Урнов: «Писатель, который поддерживал контакт с читателями исключительно через книги, имеет право запретить кому бы то ни было заглядывать в его жизнь. Иное дело, – пишет Урнов, – когда личность писателя играет роль наряду с его сочинениями, когда личный писательский миф оказывается одним из выразительнейших его созданий. Тогда читатель имеет право узнать подноготную этого мифа так же, как имеет он право знать историю создания любого произведения. В таком случае личность писателя подлежит анализу и оценке, как и его творчество»10.
Едва ли Д.М. Урнов имел в виду именно Фадеева, однако сказанное им в полной мере к Фадееву применимо, поскольку объясняет мотивы нарастающего общественного интереса к личности этого писателя. Итог этого интереса для самого Фадеева был, конечно, предсказуем.
За неделю до рокового дня Фадеев, уже пребывавший, по определению К.Л. Зелинского, «в какой-то неутолимой тревоге», обронил: «Мы, Корнелий, сейчас все в дерьме, – и показал рукою по самые губы. – Никто сейчас после того, что произошло, по-настоящему писать не сможет – ни Шолохов, ни я, никто из людей нашего поколения... Исковерканы мы»11.
Что и говорить, признание весьма красноречивое. Не в нем ли ключ к пониманию причин творческой деградации не только Фадеева, но и многих из тех, кто так блистательно начинал в 20-е годы, а затем так же, как Фадеев, был «исковеркан» и безжалостно раздавлен режимом, требовавшим от писателя только одного: угодничества и верноподданнических песнопений? Разве не об этом же на закате своих дней с нескрываемой печалью скажет и Леонид Леонов: «мимоходом повредили какой-то очень важный ген»?..
II
События развивались так, считает С.И. Шешуков, что «наряду с большим плодотворным делом, которое Фадеев осуществлял и будет с годами осуществлять на благо нашей литературы, станут от года к году накапливаться трагические страницы истории его деятельности, которые он с глубочайшим потрясением прочтет и осознает перед концом своей жизни»12.
Уточним: уважаемый профессор лукавит: самое существование «трагических страниц» собственной деятельности «глубочайшим потрясением» для Фадеева не стало и стать не могло, поскольку он знал о них (и часто был их творцом) задолго до трагической развязки. Более того – и что особенно прискорбно – они действительно «накапливались»: Фадеев сам неутомимо приумножал их. Приумножал даже тогда, когда к этому его никто не понуждал.
Нет, Фадеев не писал доносов и не просил у палачей из НКВД, как это делал, к примеру, его давний, еще по Ростову, друг и предшественник на посту генерального секретаря Союза писателей Вл. Ставский, «помочь решить вопрос» о непослушном писателе. Нет, писательский генсек А.А. Фадеев подобные «вопросы» решал самостоятельно. «Арестовать Спасского» – в следственном деле репрессированного ленинградского поэта сохранилась телеграмма именно с таким текстом, подписанная «инженером человеческих душ» Александром Александровичем Фадеевым13.
«Глубочайшим потрясением» для Фадеева, приблизившим трагический финал его жизни, стало другое: о его личной причастности к уничтожению некоторых коллег по перу не только шептались на кухнях, писали в письмах и дневниках, но уже говорили ему в лицо – да еще и принародно! – те немногие счастливцы, кто уцелел в сталинском молохе и воротился из лагерей.
Вспоминает Игорь Сергеевич Черноуцан – литературовед, критик, в 50–70-е годы работник отдела культуры ЦК КПСС: «Однажды после затянувшегося заседания в Союзе писателей мы вместе с Фадеевым вышли из его кабинета в приемную. Навстречу нам поднялся худой, бледный, плохо одетый человек. Это был, как оказалось, Иван Макарьев, бывший соратник Фадеева по РАППу, только что вернувшийся в Москву из лагеря...» (Прервем цитату и уточним: это был тот самый Макарьев, который в верноподданническом экстазе помогал Фадееву в 31-м году шельмовать Андрея Платонова. «Это клевета классового врага на колхозы, на колхозные кадры, на всю нашу работу», – писал о «Бедняцкой хронике» А. Платонова Макарьев. – «Вылазка произведена хитрым, но мало талантливым представителем кулачества» и т.д., и т.п.).
– Ах, Иван, – радостно обратился к нему, раскрыв объятия, Фадеев. – Где ты? Что ты? Почему ты до сих пор не заявился ко мне? Ты ведь знаешь, как я рад тебе!
Макарьев отступил на шаг назад и отвел руки за спину.
– Товарищ Фадеев, – сказал он подчеркнуто сухо и официально, – до тех пор, пока вы не объясните мне, почему мои письма к вам оказались у моего следователя, я вам руки не подам.
Фадеев, – вспоминает Черноуцан, – вспыхнул до корней волос и, резко повернувшись, молча вышел из приемной. А когда он наконец овладел собой, все еще потрясенный и взволнованный, говорил мне:
– Ну как он мог поверить, что я предал его. А что до писем, так письма его ко мне я послал в прокуратуру потому, что в них было пламенное и даже несколько неожиданное для частной переписки восторженное, экзальтированное выражение любви и преданности Сталину. Я был уверен, что они послужат лучшим доказательством его полной невиновности и абсурдности выдвинутых против него обвинений. По-видимому, следователь-подлец только показал издали ему мои сопроводительные письма и прокомментировал их провокационным образом: «Что вы упираетесь, гражданин Макарьев, ведь вот даже ваш ближайший друг обличает вас в предательстве и шпионаже! Узнаете почерк?». Как я докажу Ивану, что всё это гнусная и злобная провокация? Где мои письма, да и где сейчас этот следователь? Наверное, и сам он уже расстрелян…»14
Ну, что на это скажешь? Едва ли Фадеев не понимал, почему в письмах Макарьева «было пламенное и даже несколько неожиданное для частной переписки восторженное, экзальтированное выражение любви и преданности Сталину»: письма-то эти писал не курортник, а подследственный, и переписка, ежели она и вправду дозволялась, наверняка тщательно контролировалась. И потом, не логичнее ли было бы объяснить всё это не Черноуцану, а самому «ближайшему другу» Макарьеву, и тогда, наверное, не пришлось бы строить водевильные предположения о том, что и как показывал и говорил арестованному Макарьеву бериевский «следователь-подлец»...
По осторожному предположению Б.Л. Пастернака, в последнее мгновение перед смертью только воспоминания способны «дотянуться до человека, спасти и поддержать его».
Едва ли воспоминания, если они все-таки посетили Фадеева перед его последней минутой, могли поддержать или, уж тем более, остановить, уберечь его от рокового шага.
«Я сделал много ошибок, и, может быть, вся моя жизнь и состояла из одних ошибок», – таким вот неожиданным признанием предварил он свою речь на предпоследнем для него ХШ пленуме Союза писателей. В этом безрадостном признании, если оно все-таки прозвучало15, едва ли было лукавство. О некоторых «ошибках» Фадеева мы уже вспоминали. Но сколько же их было!..
Елена Сергеевна Булгакова, собирая смертельно больного мужа в Ялту, в Дом писателей, записала: «Фадеев – успокоил насчет квартиры, всё обещал сделать, пьес еще не прочитал – тоже обещал не откладывать...»
М.А. Булгаков умер 10 марта 1940 года. А накануне, 1 марта, у него был Фадеев.
«– Александр Александрович, я умираю, – сказал Булгаков. – Если задумаете издавать – она всё знает, всё у неё...
Фадеев, своим высоким голосом, выговорил:
– Михаил Афанасьевич, Вы жили мужественно и умрете мужественно!
Слезы залили ему лицо, он выскочил в коридор и, забыв шапку, выбежал за дверь...»
Теперь-то мы знаем: выбежав за дверь, Фадеев забыл не только шапку. Во всяком случае, он не выполнил ни одного своего обещания и ничего не сделал для того, чтобы произведения Булгакова наконец-то увидели свет. Не вспомнил он о Булгакове и тринадцать лет спустя, в октябре 1953-го, когда, готовя доклад к открытию XIV пленума Союза писателей, предлагал реабилитировать некоторых «ранее раскритикованных за идейные ошибки» писателей. Имени Булгакова в предложенном списке имен не оказалось...
«Человек измеряется не с ног до головы, а от головы до неба», – сказал Конфуций.
Мерило Фадеева – его поступки. Они говорят о нем подчас куда больше скупых биографических хроник.
Накануне последнего ареста Осип Мандельштам унизительно просил Фадеева принять его. Фадеев от встречи уклонился. Опального поэта принял Ставский. Да, тот самый, написавший, едва за Мандельштамом закрылась дверь, донос «наркомвнудел тов. Ежову Н.И.», в котором просил «решить вопрос о Мандельштаме». «Вопрос» решили. Решили в духе времени: Мандельштама арестовали и сослали в лагерь под Владивостоком, где он и погиб. Воистину: «нет человека – нет проблем»...
Современники вспоминают: в тот день, когда в Москву пришло известие о гибели поэта, писательский генсек был на банкете. Узнав о смерти Мандельштама, пьяный Фадеев плакал. Может, и вправду: «слабый особенно тогда, когда чувствую себя виноватым»...
Виктор Конецкий с высоты восьмидесятых высказал предположение, что в 30-е годы «все мужчины-писатели где-нибудь и как-нибудь запачкались»16.
Ну, во-первых, не все. А, во-вторых, если кто и «пачкался», то не так грязно, цинично и верноподданнически усердно, как это делал, к примеру, писательский генсек Фадеев.
Из письма М. Шолохова другу 2 апреля 1930 года: «...Фадеев предлагает мне сделать такие изменения, которые для меня неприемлемы никак. Он говорит, ежели я Григория не сделаю своим, то роман не может быть напечатан... Делать Григория окончательно большевиком я не могу... Я предпочту лучше совсем не печатать, нежели делать это помимо своего желания, в ущерб и роману, и себе. Вот так я ставлю вопрос. И пусть Фадеев (он же «вождь» теперь...) не доказывает мне, что "закон художеств. произведения требует такого конца, иначе роман будет объективно реакционным". Это – не закон...»17.
Как художник Фадеев тоже знал, что «это – не закон». «Это» – называлось совсем иначе.
Получив выволочку от Сталина за публикацию в 9-й книжке «Октября» за 1929 год «Усомнившегося Макара» Андрея Платонова, Фадеев быстро сориентировался, став бесповоротно на путь, который и привел его к трагическому тупику 1956 года. Но это был его выбор. За семь лет до трагической развязки Фадеев-«вождь», уже уверовав в собственную особость, не без чванливой гордыни заявит: «Нам нужно было выбирать, на чью сторону стать. Выбирать нужно было и потому, что людей, не ставших на ту или другую сторону, били и с той и с другой стороны»18.
Перспектива быть битым «и с той и с другой стороны» не привлекала и не сулила никаких дивидендов. Александр Александрович Фадеев предпочел «бить» других. И, надо признать, немало преуспел в этом. Не дождавшись от Шолохова «переделок» и «исправлений», призвал общественность «взять роман "Тихий Дон" под обстрел!». И «обстреляли». Да еще как!.. Ну, чем, скажите, не выбор?
И вот так, шаг за шагом, уже вся жизнь буквально на глазах превращалась в какую-то неостановимую сатанинскую череду чудовищных компромиссов с собственной совестью.
Нынешние читатели, в послефадеевские времена окончившие советскую среднюю школу, наверное, еще помнят лирический пассаж о «маминых руках» из «Молодой гвардии». Пассаж требовали вызубрить наизусть как достойный подражания образец нетленной сыновней любви. Но едва ли тем, кто запомнил тот славный текст, ведома следующая подробность. Когда мама Фадеева, Антонина Владимировна, померла, хоронили ее «парттоварищи» и вездесущий Корнелий Люцианович Зелинский, которому Фадеев поручил «это сделать и сказать несколько слов». Сам Фадеев, как пишет Зелинский, «не смог (или не хватило сил) поехать проводить ее в последний путь» [с. 166].
...Приняв правила игры, навязанные коммунистическим режимом, изощренно чередовавшим кнут и пряник, Александр Фадеев едва ли не понимал, что его собственные «ошибки» весьма далеки по своему нравственному содержанию от привычных общечеловеческих норм морали. Есть немало прямых и косвенных свидетельств, подтверждающих: с годами Фадеев всё чаще искал оправдание этим «ошибкам». Искал и находил... как заурядный обыватель – вне себя: обвинял коллег-писателей, «парттоварщей», время, эпоху – кого угодно, только не себя любимого. После смерти Анатолия Тарасенкова, весьма одиозного критика той поры19, и незадолго до своей кончины обронил: «Мы с Толей оба были – продукт эпохи!»20.
Но только ли «эпоха» всему виной?
III
В народе говорят: добрая слава за печкой сидит, худая по свету бежит. Добежала худая о нашем герое и до Парижа. Во всяком случае, И.А. Бунин в одном из писем М.А. Алданову, сообщая о письме Н.Д. Телешова, который рассказывал о праздновании 800-летия Москвы и упрекал Бунина за то, что тот не приехал в Москву, когда собирались издать его книгу, между прочим замечает: «Прочитав это, я целый час рвал на себе волосы. А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева, который, кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов»21.
Такая оценка в устах Бунина говорит о многом. При всей ненависти к большевистскому режиму и нескрываемом презрении к его лидерам И.А. Бунин никогда не утрачивал чувства справедливости и не опускался до клеветы. Едва ли он не ведал о поведении Фадеева в 1929-ом, когда в 9-й книжке журнала «Октябрь» увидел свет рассказ Андрея Платонова «Усомнившийся Макар», вызвавший гнев Сталина, и потом позже, в 1931-м, когда в 3-й книжке «Красной нови» появилась «Бедняцкая хроника» («Впрок») Платонова, буквально взбесившая рапповских вождей. Оценки «собратьев» по творческому цеху ошеломляют. «Кулацкая хроника», «кулацкий агент самой последней формации», «омерзительный фальшивый кулацкий Иудушка Головлев» и т.п. – именно так характеризовал Платонова и его произведения сам Фадеев. Кажется невероятным, чтобы страх за собственное благополучие до такой степени парализовал совесть, чтобы так говорил о писателе писатель...
Едва ли не ведал Бунин и о той позорной роли, которую опять же не без показного усердия исполнил Фадеев в кампании омерзительной травли Анны Андреевны Ахматовой и Михаила Михайловича Зощенко22, или о том, что Фадеев без особых нравственных мук занял дачу только что репрессированного и расстрелянного В.В. Зазубрина – его давнего, еще по совместной работе на Дальнем Востоке, друга и замечательного писателя... Как же это было не похоже на поступок Б.Л. Пастернака, который сменил место жительства только потому, что рядом был дом, из которого увели на смерть его соседа и друга писателя Бориса Пильняка...
«Чинушей» назвала Фадеева в своих дневниках О.Ф. Берггольц. «Лукавым царедворцем» и «бездушным лицедеем» называл его Б.Л. Пастернак. У Пастернака была возможность убедиться лично в этих качествах Фадеева. Многое открылось в нем Б.Л. Пастернаку в связи с хлопотами Бориса Леонидовича по поводу бедственного положения вернувшейся из эмиграции Марины Цветаевой. К тому времени у Цветаевой уже были арестованы муж и дочь. Пастернак обратился к Фадееву с просьбой посодействовать в приеме Цветаевой в писательский Союз. «А если нельзя в Союз, – осторожно просил Пастернак, – то хотя бы в члены Литфонда, что могло бы дать ей какие-то материальные преимущества»23.
И что же Фадеев?
Отказал. И не просто отказал, а, как неразумного мальчишку, отчитал Пастернака. Мария Белкина вспоминает: «Фадеев рассердился на Бориса Леонидовича – как тот может об этом поднимать вопрос, неужели сам не понимает, что в данной ситуации это невозможно!» [c. 83]. Уж в чем другом, а в «ситуациях» писательский генсек разбирался отменно.
А Пастернак действительно искренне не понимал, как можно отказать в помощи тому, кто в ней нуждается.
Гордая и своенравная, знавшая себе цену М.И. Цветаева, доведенная до отчаяния разлукой с близкими, бездомьем и ощущением ненужности в собственной стране, обратилась с письмом-мольбой к Фадееву. Можно только догадываться о том, каких нравственных усилий стоило Цветаевой это прошение. Чиновный ответ писательского генсека Фадеева сохранился в нетленности, вот его полный текст, он много скажет об авторе и его отношении к коллегам:
«Тов. Цветаева!
В отношении Ваших архивов я постараюсь что-нибудь узнать, хотя это не так легко, принимая во внимание все обстоятельства дела24. Во всяком случае, постараюсь что-нибудь сделать.
Но достать Вам в Москве комнату абсолютно невозможно. У нас большая группа очень хороших писателей и поэтов, нуждающихся в жилплощади. И мы годами не можем достать им ни одного метра.
Единственный выход для Вас: с помощью директора дома отдыха в Голицыне (она член местного поселкового Совета) снять комнату или две в Голицыне. Это будет стоить Вам 200–300 рублей ежемесячно. Дорого, конечно, но при Вашей квалификации Вы сможете много зарабатывать одними переводами – по линии издательств и журналов. В отношении работы Союз писателей Вам поможет. В подыскании комнаты в Голицыне Вам поможет Литфонд. Я уже говорил с тов. Оськиным (директор Литфонда), к которому советую Вам обратиться.
А. Фадеев» [c. 86].
Письмо датировано 17 января 1940 года. Марине Цветаевой – напомним – остается жить под одним солнцем с Фадеевым немногим более полутора лет. О том, какими были для Цветаевой эти оставшиеся месяцы, красноречиво говорит сделанная ею запись в дневнике: «Никто не видит – не знает, – что я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк... Я год примеряю – смерть» [c. 320].
Самоубийство М.И. Цветаевой – тема особая, и мы не станем задерживать внимание читателя на роковых поворотах ее догорающей жизни. Скажем только, что жилье Цветаевой по указанию Фадеева подобрали. Не комнату и не две, а угол за перегородкой в неотапливаемой избе, в которой даже электричества не было. Оказав¬шись в 40-градусные морозы без тепла, Цветаева в отчаянии просит совета у Мариэтты Шагинян: «Милая Мариэтта Сергеевна, я не знаю, что мне делать. Хозяйка, беря от меня 250 р. за следующий месяц за комнату, объявила, что больше моей печи топить не может – п.ч. у нее нет дров, а Сераф(има) Ив(ановна)25 ей продавать не хочет.
Я не знаю, как с этими комнатами, где живут писатели, и кто поставляет дрова??? Я только знаю, что я плачу очень дорого (мне все говорят), что эту комнату нашла С.И. и что Муру сейчас жить в нетопленной комнате – опасно. Как бы выяснить? Хозяйке нужен кубометр» [c. 87].
«Между прочим, – утверждает М. Белкина, – одного бы только слова Фадеева тогда, в декабре, при разговоре с Оськиным было бы достаточно, и Литфонд позаботился бы о Марине Ивановне несколько иначе» [c. 103]. Но, увы...
В завершение темы «Цветаева и Фадеев» приведем еще один факт, прямого отношения к писательскому генсеку, возможно, и не имеющий. Устав от безденежья и нищеты, М.И. Цветаева обратилась в Совет жен писателей – был такой в Чистополе, возглавляла его жена Фадеева молодая актриса МХАТа Ангелина Степанова. Цветаева просила принять ее в писательский буфет судомойкой. Совет в прошении отказал26.
Представление о нравственных и человеческих качествах А.А. Фадеева будет, наверное, неполным, если мы умолчим о других свидетельствах современников Фадеева – людей, достаточно давно и хорошо его знавших. Процитируем документ, пребывавший в архиве ЦК КПСС и преданный огласке только в 1990 году. Это собственноручная записка М. Горького в ЦК ВКП(б) по поводу намечаемого состава Правления писательского Союза. Узнав, что в Правление предполагают ввести «Панферова, Ермилова, Фадеева, Ставского и двух, трех других», Горький заявил решительный протест: «Люди малограмотные будут руководить людьми значительно более грамотными, чем они. Само собою разумеется, – писал он, – что это не создаст в Правлении атмосферы, необходимой для дружной и единодушной работы. Лично я знаю людей этих весьма ловкими и опытными в “творчестве” различных междуусобий, но совершенно не чувствую в них коммунистов и не верю в искренность их. Поэтому работать с ними я отказываюсь, ибо дорожу моим временем и не считаю себя вправе тратить его на борьбу против пустяковых “склок”, которые неизбежно и немедленно возникнут»27.
В ЦК мнением Горького пренебрегли – и Фадеев, и Панферов, и Ставский в состав Правления всё-таки вошли. Теперь уж вершить судьбами коллег-писателей Фадеев обязан был и по чину, став послушным и весьма усердным «колесиком и винтиком» репрессивной государственной машины. Рассказав однажды Корнелию Зелинскому о стычке с всесильным шефом НКВД Лаврентием Берией, Фадеев фактически признал, что его, по меньшей мере, знакомили с «делами» репрессированных писателей («Довольно я видел этих дел, – бросил он в лицо Берии. – Вы мне их присылаете»28). Стало быть, видел, знал, не мог не знать о масштабах творимого беззакония. Знал и молчал. Молчал – потому что в тех условиях молчать было выгоднее, а главное – безопаснее: тут уж либо безропотно принимай навязываемые режимом правила чудовищной кровавой «игры» и сам оставайся живу, либо ступай на плаху – не за себя, так за друга своя.
«Надо было спасать либо жизнь, либо душу, – сказала Л.Я. Гинзбург о Мандельштаме. – Мандельштам предпочел второе».
Фадеев спасал жизнь. Причем – будем к нему справедливы – иногда не только свою. Так, по свидетельству членов семьи народного поэта Киргизии Аалы Токомбаева, Фадеев дал кров киргизскому поэту, бежавшему от репрессий в пору так называемой «борьбы с буржуазным национализмом» в Киргизстане.
«Во всех стихиях человек тиран, предатель или узник», – говорил Пушкин. Разумеется, и о Фадееве однозначно судить нельзя – в нем было всё. Было и вельможное упоение пожалованной властью, и нескрываемая гордыня дворового, вхожего в господскую. И открытое предательство сотоварищей по перу тоже было – мы уже говорили о том, с каким верноподданническим бесстыдством и нарастающим усердием лакея цинично распинал он по сталинской подсказке Андрея Платонова, величая коллегу последними словами. С высоты нашего времени понятно: не Платонова предавал Фадеев, когда вместе с разного рода макарьевыми печатно называл его «врагом» и «кулацким агентом». Фадеев предавал себя. Предавал в себе художника, то есть хранителя и воспитателя нравственности. И потому камень равнодушного предательства, брошенный им в погибающего Бабеля или Цветаеву, бумерангом поразит его самого. Отрывочные, мимолетные характеристики Фадеева, встречающиеся в письмах и записных книжках писателей-современников, только доказывают, что предположение наше верное: случаи с Андреем Платоновым, Осипом Мандельштамом, Исааком Бабелем или Мариной Цветаевой исключением, увы, не были29. Выходит, Солженицын прав, сказав как припечатав: та не овца, что за волком пошла...
IV
К середине сороковых годов Фадеев как бы прозревает. Победный сорок пятый стал в этом смысле поворотным в его судьбе: приучив себя верить безусловно Коммунистической партии и ее кровожадным вождям, Фадеев, может быть, впервые отчетливо осознал, что на самом деле вершит именем народа и над народом сталинская клика «тонкошеих вождей». Понял и оценил роль свою в осуществлении так называемого партийного руководства литературой, проводником и усердным орудием которого он был. Поняв это, Фадеев пришел в отчаяние, был близок к самоубийству. «Два раза он к этому примерялся, – пишет К. Зелинский. – Первый раз еще в 1945 году. Тогда пришла звать его обедать И.А. и застала его пишущим какое-то письмо, на столе лежал наган. Фадеев скомкал эту записку и бросил ее в корзину под столом, наган спрятал в ящик письменного стола. Но уже тогда жил Фадеев под надзором. Вынули записку, расправили ее и прочитали слова: «Я не могу больше жить Дон Кихотом» [c. 183–184].
Не правда ли, весьма странное для писателя представление о Дон Кихоте?..
Стать поднадзорным Фадеев помог себе сам: с возрастом, прозревая, он становился всё менее покладистым и всё более прямым, подчас даже резким. Опытный аппаратчик-царедворец, еще вчера терпеливо сносивший обиды, унижение и даже явное глумление и хамство кремлевской камарильи, Фадеев становился нетерпим и взрывчат. Он становился неуправляем и потому – опасен.
Стычка с Берией стала в некотором смысле поворотной: никогда еще Фадеев не был так смел и дерзок. «...Эти вызовы, эти перетряски, эти науськивания друг на друга, эти требования доносов – всё это нравственно ломает людей, – заявил Фадеев шефу НКВД. – В таких условиях не может существовать литература, не могут расти писатели».
«Берия, – рассказывал Фадеев Зелинскому, – разозлился, бросил кий и пошел в столовую за пиджаком, который он там оставил. Я воспользовался этим случаем и через другую дверь вышел на террасу, затем в сад. Часовые видели меня в воротах, поэтому выпустили меня. Я быстрым шагом отправился на Минское шоссе. Прошло минут пятнадцать, как я скорее догадался, а потом услышал и увидел, как меня прощупывают длинные усы пущенного вдогонку автомобиля. Я понял, что эта машина сейчас собьет меня, а потом Сталину скажут, что я был пьян, ...тем более что Берия усиленно подливал мне коньяку. Я улучил момент, когда дрожащий свет фар оставил меня в тени, бросился направо в кусты, а затем побежал обратно, в сторону дачи Берии, и лег на холодную землю за кустами. Через минуту я увидел, как «виллис», в котором сидело четверо военных, остановился возле того места, где я был впервые замечен. Они что-то переговорили между собой – что, я уже не слышал, – и машина, взвыв, помчалась дальше. Я понял, что если я отправлюсь в Москву по Барвихинскому, а потом Минскому шоссе, то меня, конечно, заметят и собьют. Поэтому, пройдя вперед еще около километра за кустами, я перебежал дорогу и пошел лесом наугад по направлению к Волоколамскому шоссе. Я вышел на него примерно в том месте, где проходит мост через Москву-реку у Петрова-Дальнего. Пройдя еще полкилометра, я сел в автобус, приехал к себе на московскую квартиру, где официально, так сказать, я уже был в безопасности» [c. 174–175].
Не будем гадать, что в этом пересказе Зелинского правда, а что домысел, – не в этом суть. Важно другое: той майской ночью, лежа на холодной земле, хоронясь от бериевских заплечных дел мастеров, Фадеев понял, пожалуй, самое существенное для себя: в условиях бандитского государства никакие регалии не спасут его от расправы, если он пойдет по пути нарастающей конфронтации с властью. Понял, что теперь, переступив грань дозволенного «колесику и винтику» в отлаженном сталинском механизме, он стоит ближе к драматической развязке, чем, может быть, любой из тех, за кого он когда-либо хлопотал. И вновь – уж в который раз! – Фадеев оказался в ситуации выбора между долгом и совестью. «Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести, – утверждал Вл. Соловьев. И он же, развивая эту мысль, продолжал: – Я не могу служить как следует своему Отечеству, если я при этом не служу истине и справедливости, если я не подчиняю безусловно и себя, и свой народ высшему нравственному закону».
Так считали, так думали лучшие умы России в начале века двадцатого. К середине столетия, в эпоху растлевающей коммунистической диктатуры, уже прижились и набрали силу совсем другие нравственные ориентиры.
V
Наверное, проще всего было бы обвинить в случившейся трагедии самого писателя, что, кстати, некоторые уже поспешили сделать. «Тени лагерных призраков замучили Фадеева, – считает, к примеру, Евг. Евтушенко. – Он не выдержал взгляда тех из них, кто вернулся»30. Либо переложить всю вину на тираническую государственную систему: и в самом деле, разве Фадеев, в известном смысле, не жертва сталинизма – того самого деспотического тоталитарного режима, в созидание и упрочение которого он заложил и свой собственный камень – свой талант и собственную жизнь?
И тот, и другой ответы, очевидно, близки к истине, но даже оба вместе они – и это тоже очевидно – едва ли вся истина.
Попытки взглянуть на Фадеева – писателя и человека – непредубежденным взглядом уже предпринимались отечественным литературоведением. Одна из первых наиболее беспристрастных и доказательных принадлежит перу С.И. Шешукова. «Невозможно сомневаться в искренности заблуждений Фадеева», – считает он. Более того, продолжает профессор Шешуков, Александр Фадеев «на протяжении всей своей деятельности – касалось ли это человеческих отношений или относилось к битвам на литературном фронте – всегда был предельно честным, искренним и благородным. Но при всем нашем глубочайшем уважении к памяти Фадеева и к его заслугам перед литературой, а точнее – благодаря этому уважению мы обязаны сказать о нем всю правду»31.
Увы, это намерение осуществлено не было. Думаю, не только по той причине, что книга «Неистовые ревнители» рождалась в глухую пору застоя, когда «вся правда» и не могла быть сказанной. Неосуществимость намерения очевидна и по другой причине: надо было либо отказаться от характеристики писателя в стиле фортиссимо («всегда был предельно честным, искренним и благородным»), либо обойти стыдливым молчанием всё то, что, к сожалению, далеко не всегда в поступках и деяниях Фадеева было и честным, и искренним, и благородным. К примеру, умолчать о том, что Фадеев не только сам чутко прислушивался к тому, какими хотел видеть произведения писателей кровавый режим «тонкошеих вождей» и был угоднически уступчив, когда от него, профессионального писателя, партчиновники требовали переделок, но и с верноподданническим усердием добивался от коллег такого же послушания.
«Я серьезно боюсь за свою дальнейшую литературную участь», – признавался в письме другу еще не сломавшийся Шолохов, от которого Фадеев весьма настойчиво требовал привести к большевизму Григория Мелехова. «Если я и допишу “Тих. Дон”, то не при поддержке проклятых “братьев”-писателей и литерат. общественности, а вопреки их стараниям всячески повредить мне... И допишу так, как я его задумал»32.
Шолохов тогда устоял. А сколько писательских судеб было изломано под напором таких вот «предельно честных, искренних и благородных» служителей режима... С высоты лет особенно очевидно: нравственное перерождение принявших большевизм вырастало до масштабов общенационального бедствия. И самое трагическое состояло в том, что в этот растлевающий общественную нравственность процесс вовлеченными оказались писатели, многие люди искусства. «Диктатура над духом есть неверие в свой народ», – предостерегал Н.А. Бердяев. Но это был глас вопиющего в пустыне. Большевизм наглядно демонстрировал, что является в известном смысле уникальной, пересотворяющей человека идеологией: нравственность иных «инженеров человеческих душ» определялась не общечеловеческими представлениями о добре и зле, а прежде всего местом и положением в государственно-партийной иерархии.
Предательство Александром Фадеевым нравственных идеалов юности (не будем сейчас входить в их оценку) катилось торной дорожкой: как и всякое предательство, оно начиналось с измены самому себе.
Вспоминает сын писателя Всеволода Иванова – Вячеслав Всеволодович Иванов: «Пьяный Фадеев, живший на даче в Переделкине по соседству с моими родителями, забрел к нам весной 1956 года <...> и просидел у нас целый день. Он был в запое, и его воспоминания неслись потоком. Он рассказывал о том, что его мучило больше всего. Это было его предательство по отношению к Ягоде.
По словам Фадеева, в первые дни после публикации постановления ЦК (о роспуске РАППа, принятое 23 апреля 1932 г. – В.В.) он и его друг Луговской были близки к отчаянию. Фадеев поспешил написать покаянное письмо, поддерживающее постановление... И Фадеев, и Луговской, боясь за свою жизнь, сидели дома. Никто им не звонил, они никого не видели. Через несколько дней <...> не выдержали и поехали на дачу к Ягоде – своему бывшему покровителю. Ягода встретил их достаточно сухо.
У него были его заместители. После короткого общего разговора Ягода позвал Фадеева в бильярдную. Там он очень резко стал ругать Фадеева за его покаянное письмо. Ягода упрекал его в том, что он предал товарищей. Фадеев описывал свое состояние: его ругает всемогущий начальник НКВД, он его может посадить. В попытке себя защитить Фадеев стал очень громко возражать Ягоде: как вы, старый член партии, можете меня осуждать за поддержку решения ЦК? На крик Фадеева сбежались все гости. Уже при них он объявил Ягоде, что не желает оставаться у него на даче. Он собрался уходить. Луговской к нему присоединился. Они побрели пешком и в еще большем отчаянии: нажили себе такого могущественного врага. Прошли недолго, с ними поравнялась машина одного из заместителей Ягоды. Он предложил довезти их до Москвы».
Приехав домой, Фадеев решил упредить действия Ягоды и тут же написал «письмо в ЦК с изложением случившегося. Сам и отнес письмо».
Верноподданничество Фадеева и его способность к доносительству были замечены и оценены по достоинству. После ареста Ягоды Фадеева «попросили изложить содержание его старого письма в ЦК уже в форме показаний по делу Ягоды».
«Меня поражало, – пишет Вяч. Вс. Иванов, – что перед смертью его беспокоили не подписи, санкционировавшие аресты писателей, которые он ставил как руководитель Союза писателей, <…> не люди, арестованные по его навету <...> или за то, что осмелились критиковать его писания <...>. Из многочасового рассказа Фадеева о его жизни выходило, что именно предательство по отношению к Ягоде было самым тяжким его грехом. Мне кажется, что в этом сказался Фадеев-политик, после XX съезда тяготившийся былой благосклонностью Сталина, купленной столь сомнительной ценой»33.
В сущности, трагедия Александра Фадеева – если посмотреть на нее шире – это трагедия обманутой и обманувшейся интеллигенции, по крайней мере той ее части, которая поверила в большевистские лозунги, преданно служила и прислуживала коммунистическому режиму. Растленная безнравственной преступной властью и зашедшая в тупик, наиболее верноподданническая часть творческой интеллигенции, прозрев, не нашла и не могла найти морального оправдания ни пройденному историческому пути (ибо, как оказалось, это был путь в никуда), ни тем многомиллионным человеческим жертвам, которыми была вымощена дорога в иллюзорный коммунистический рай. Это был крах. С такой ношей в сознании было не выжить. В числе этих обреченных оказался и Александр Фадеев. Выходит, поэт прав: и «под душой так же падаешь, как под ношей»...
VI
В последние два – два с половиной года жизни Александра Фадеева его «роман» с компартией стремительно приближался к своему логическому завершению. Со смертью Сталина в нем произошел некий внутренний надлом. «Я болен, – писал он А. Суркову весной 1953 года, вскоре после смерти диктатора. – Я болен не столько печенью, сколько болен психически…»34
В августе того же 1953 года Фадеев шлет в ЦК КПСС одно за другим письма. Их тон сдержан, учтив, корректен. В них уже нет былого искательства, чувствуется, что автор знает себе цену, и цена эта по-прежнему весьма высока. По жанру это деловые письма.
В одном он хлопочет о созыве пленума писательского Союза и предлагает начать подготовку ко второму съезду писателей страны, оптимальным сроком его открытия называет 20 сентября 1954 года. В другом письме, не скрывая досады, говорит о том, что писатели – и этим он как бы предваряет мысль, которую разовьет потом в более резкой форме в предсмертном письме, – поставлены в нашей стране в унизительное и бесправное положение, их то и дело понуждают «к боязливой оглядке на иных чиновников-функционеров, стоящих на неизмеримо более низком уровне, чем деятели искусств и литературы, но поставленных над ними своим положением в государственном аппарате». Эти и другие «бюрократические извращения», говорит он далее, «и являются тормозом в развитии советского искусства и литературы»35.
Адресованное Г. Маленкову и Н. Хрущеву, это письмо (оно озаглавлено Фадеевым в духе заскорузлых партийных циркуляров – «О застарелых бюрократических извращениях в деле руководства советским искусством и литературой и способах исправления этих недостатков») передает тревогу и озабоченность писателя состоянием и перспективами национальной художественной культуры. Он не скрывает своего недоумения по поводу того, что так называемое «партийное руководство» литературой и искусством не принесло ожидаемых победных результатов. «В нашей стране, – пишет Фадеев, – ежегодно справляются юбилеи русских и иных классиков, являющихся великой национальной гордостью и гордостью всего прогрессивного человечества. Встает, однако, законный вопрос: как же это возможно, чтобы за последние полтора века существования старой России, при зверском сопротивлении всему прогрессивному со стороны реакционного царского строя, буквально каждое десятилетие выдвигались достойные не только своего времени, а и далекого будущего – и притом в таком изобилии! – писатели, композиторы, актеры, художники; а в наши дни, когда уж так немного осталось до полувека существования социалистического строя в СССР, при наличии коммунистического руководства, при самой прогрессивной власти будто бы и есть только один Маяковский, а после него всеобщее «отставание»?
«Разве в недрах нашего советского общества не заложены силы, которые должны были бы давать более великие результаты, чем в старые времена?» – недоумевает и, кажется, искренне Фадеев.
Не будем, однако, торопиться осуждать писателя за политическую наивность и близорукость – вспомним об идеологических мифах большевизма, в дурманной атмосфере которых формировалось и крепло идеологическое сознание Фадеева, и тогда станет понятно, что другим оно и не могло быть. Это очевидно. Как очевидно, впрочем, и то, что Фадеев всё больше, всё глубже и мучительнее размышляет над причинами упадка отечественной художественной культуры. Партийное «руководство» литературой и искусством, его содержание, формы и методы, еще недавно казавшиеся Фадееву безупречными и единственно возможными, теперь предстают в его глазах уже без прежнего пропагандистского флёра.
«Правильно ли мы используем те гигантские, уже выявившиеся и в еще большей мере потенциальные силы, которые заложены в тысячах талантливых людей, реально живущих и действующих работников искусств и литературы? – спрашивает он. – Доверяем ли мы им в такой степени, как они того заслуживают? В полной ли мере развязали мы их общественную и творческую инициативу? Не слишком ли мы их "заопекали"? Не отучаем ли мы их от самостоятельного мышления, от хозяйского отношения их к собственному делу?..»
Вопросы становятся всё острее, и формулирует их Фадеев таким образом, что уже не остается места для сомнения в том, что он знает на них ответ. Во всяком случае, Фадеев не ограничился перечислением недостатков и указанием их причин. Письмо – оно состоит из четырех обширных глав-разделов – содержит такое многоцветье ярких конструктивных идей и практических предложений по реорганизации творческой жизни в стране, что их воплощение растянется на десятилетия: некоторые из этих идей будут реализованы уже после гибели Фадеева, а некоторые останутся неосуществленными и по нынешний день. Вместе с тем достаточно перечитать это послание, чтобы понять, что Фадеев не утратил надежд и веры в чудодейственную жизнетворную мощь ЦК и уж, конечно же, не помышляет ни о каком отходе от активной творческой и общественной работы, а уж о самоубийстве – тем более!
Вскоре Фадеев шлет в ЦК КПСС третью записку – «Об улучшении методов партийного, государственного и общественного руководства литературой и искусством», в которой как бы между прочим посетовал на «келейную» зубодробительную критику ряда художественных произведений, в том числе и собственного романа «Молодая гвардия» – опыт многолетнего сотрудничества с НКВД не прошел бесследно. «Моё мнение, – пишет Фадеев, – мнение опытного писателя, члена Центрального Комитета партии и генерального секретаря Союза писателей ни разу не было выслушано ни до, ни после появления в свет любой из этих статей» [c. 230]. Тут явно, отчетливо слышны нотки раздражения и плохо скрываемой обиды: покритиковали, не испросив высочайшего позволения! Ратуя на словах за демократизацию общественной – и прежде всего духовной – жизни, Фадеев, как видим, не приемлет никакого демократизма по отношению к себе лично. Верный сын партии, ее прилежный ученик, он впитал «номенклатурное» сознание, которое воспитывалось ею, лелеялось и оберегалось. Снятие «табу» на критику в открытой печати «члена Центрального Комитета и генерального секретаря Союза писателей» – опытный аппаратчик, Фадеев отлично понимал: это не могло произойти без ведома и согласия ЦК. Это был дурной знак. Еще совсем недавно, при жизни «отца народов», за этим, как правило, могло последовать полное отлучение от «двора», публичное предание анафеме, а там и до дыбы рукой подать. Однако к осени 1953-го нравы заметно смягчились. И всё же критика в открытой печати ничего хорошего не предвещала.
Наступившие вскоре события со всей очевидностью подтвердили это.
На 20 октября 1953 года планировался XVI пленум правления Союза писателей СССР (пленум начнет работу 21 октября); вступительное слово на открытии пленума намеревался произнести Фадеев. Накануне, 14 октября, текст вступительной речи Фадеева, как было заведено, обсудили на заседании партгруппы правления СП. В обсуждении приняли участие А. Твардовский, З. Кожевников, Л. Никулин, С. Муканов, С. Михалков, А. Софронов, Ю. Либединский, А. Суров, Н. Грибачев, А. Сурков.
Во вступительном слове Фадеев призывал «не повторить старых ошибок в новом виде». Предлагал реабилитировать «ранее раскритикованных за идейные ошибки» и теперь «исправившихся» писателей – таких, как В. Катаев («За власть Советов»), В. Каверин («Открытая книга»), Э. Казакевич («Сердце друга»), В. Гроссман («За правое дело»); призвал пересмотреть отношение к писателям из союзных республик – Рылъскому, Яновскому, Сосюре, Ауэзову, Муканову и другим, отдельные произведения которых были подвергнуты жесткой критике «в процессе борьбы с буржуазным национализмом» [c. 253–254].
Как потом доносили секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову присутствовавшие на заседании партгруппы работники отделов ЦК, «тов. Либединский и особенно тов. Никулин настаивали на том, чтобы во вступительном слове на пленуме были названы в положительном плане и такие писатели, как Б. Пастернак, А. Ахматова, М. Зощенко и многие другие» [c. 241].
Против несанкционированной «амнистии» на предстоящем пленуме особенно резко выступили Твардовский, Грибачев, Софронов. Фадеев не сдавался – несмотря на угрозу Грибачева «решительно возражать ему на пленуме». Поразмыслив, Фадеев «согласился лишь на исправление преувеличенно положительных характеристик работы названных им писателей» [c. 242], вычеркнул и абзац, где говорилось о том, что «есть люди, склонные навечно приклеивать советским писателям, совершившим ошибки и исправившим их, ярлыки националистов, космополитов, формалистов и т.д.» [c. 254]. Принудили Фадеева поправить и ту часть вступительного слова, в которой говорилось об отношении к беспартийным писателям, об их отстранении от активной работы в Cоюзе писателей.
Однако проявленная Фадеевым уступчивость проблемы не сняла. События накалялись, страсти разгорелись еще больше. Софронов, Грибачев, Бубеннов, Суров, Первенцев, Кожевников и другие заявили о несогласии с позицией Фадеева, предупредили, как сообщал в ЦК сам Фадеев, что будут «выступать против моего вступительного слова на пленуме», хотя критика Фадеевым «негодной практики» руководства писательским Союзом была, по мнению самого Фадеева, «в достаточной мере тактичной и мягкой» [c. 245].
Фадеев не был наивным человеком, он хорошо понимал, что это уже даже не бунт, это заговор, и суть разгоревшегося конфликта, конечно же, не в критическом пафосе подготовленной им вступительной речи к пленуму. В писательском Союзе давно – сначала тайно, закулисно, потом уже без особого камуфляжа, почти открыто – развернулась ожесточенная борьба за власть, за ключевые посты в правлении. И вот теперь эта междоусобица выплеснулась наружу – повод нашелся. Софронова, Грибачева, Бубеннова и других (вскоре к этой группе присоединился и Сурков – в ту пору первый заместитель Фадеева и секретарь партгруппы, фактически руководивший работой правления, поскольку Фадеев официально находился в творческом отпуске) не устраивал, прежде всего, сам Фадеев как генеральный секретарь правления СП СССР. В личном письме в ЦК КПСС П.И. Поспелову Софронов говорит об этом уже без обиняков, открыто предлагая «переместить» Фадеева. «Исходя из интересов нашей литературы», Софронов предложил возродить пост почетного и бесправного «председателя Союза писателей» и назначить на эту пустопорожнюю должность Фадеева, «не вводя его в состав Секретариата» [c. 250].
Фадеев в роли «английской королевы» при Cоюзе писателей вполне устраивал группу Грибачева–Софронова, но сам Фадеев к этой роли не был готов никак.
Поторопим события и, забегая вперед, скажем, что так оно вскоре и случится: софроновский «сценарий» будет принят без поправок: А. Фадеев, многие лета полновластный хозяин и непререкаемый авторитет, будет решительно низложен и, по существу, отстранен от руководства писательской организацией страны. Для него, привыкшего еще со времен РАППа к особому положению в литературной иерархии, это будет удар смертельный: та отчаянная решимость, с какой Фадеев пытался раздавить оппозицию, открыто заявившую о своих притязаниях накануне ХIV пленума СП СССР, подтверждает это с очевидностью.
Чтобы пресечь смуту, Фадеев – с пометой на письме «Весьма срочно» – запрашивает ЦК КПСС (Г. Маленкова и Н. Хрущева) о том, «встречает ли посланный в ЦК» текст его вступительного слова «принципиальные возражения» партийного руководства. Как дисциплинированный член партии (а таковым он был всегда) Фадеев понимал, что, во-первых, согласно установленному порядку «без рассмотрения в ЦК проекта вступительного слова оно не может быть произнесено на пленуме» [c. 244]. А, во-вторых – и это для Фадеева в сложившейся ситуации особенно важно, – благословение партийного ЦК было необходимо ему как воздух: с одной стороны, оно развязало бы руки и обеспечило бы полную свободу действий, а с другой – гарантировало бы поддержку в случае возникновения непредвиденных осложнений в борьбе с оппозицией.
«Чтобы еще больше не усложнять дело, – подчеркивает в заключение Фадеев, – я пишу это письмо как письмо личное, письмо члена ЦК, и прошу меня срочно принять» [c. 248].
Тон этой приписки не оставляет сомнения в том, что Фадеев еще верит в благоприятный для него исход дела. Он еще не знает, а потому не допускает мысли о том, что его даже не удостоят ответом и что, несмотря на неоднократные просьбы о приеме, он, член ЦК, так и не будет принят партийными бонзами, о чем он с возмущением и горькой обидой напишет потом в предсмертном письме.
Между тем развязка надвигалась неотвратимо. Высочайшего ответа на челобитные не было – ЦК красноречиво отмалчивался, до открытия пленума оставались часы. Дать бой оппозиции без санкции свыше Фадеев не решался – расклад сил на предстоящем пленуме был для него очевиден, в сложившихся условиях Фадеев принял решение отказаться от вступительного слова. Исход пленума был предрешен.
Принудив Фадеева отступить, «собратья по перу» великодушно позволили ему выступить в прениях. Симоновская «Литгазета» упомянет о речи Фадеева в обзоре и посвятит ей единственный абзац из привычного набора общепринятых в то время партийно-журналистских штампов.
Представители «чисто русского начала» в литературе (а именно так в письме в ЦК Тихон Семушкин величал своих единомышленников – Софронова, Грибачева и проч.) предвкушали победу. И очень скоро она стала реальностью: 27 октября 1953 года «Литературная газета» сообщила об избрании А. Суркова первым секретарем писательского Cоюза. «В соответствии с уставом ССП, – говорилось далее, – восстановлена должность председателя правления. Председателем правления ССП СССР единогласно избран А.А. Фадеев».
Итак, длительная ожесточенная борьба разрешилась полным и сокрушительным поражением Фадеева. Её исход и не мог быть другим: поспешив поверить в возможность реальных демократических преобразований в послесталинской империи, Фадеев был бесцеремонно наказан за эту поспешность, по его самолюбию и честолюбивой гордыне был нанесен удар такой разящей силы, что выработанный за многие годы взлетов и падений «иммунитет» к крутым переменам судьбы на сей раз уже не помог. Прилежный исполнитель воли большевистского ЦК, не единожды предававший других, Фадеев сник и погас, поняв, что на сей раз ЦК хладнокровно и молчаливо предал его. Разочарование в идеалах, которым истово служил всю сознательную жизнь, стыд и страх за содеянное делали бессмысленным существование. Фадеев отчетливо понял: жизнь – кончилась. Развивавшаяся по известной иронической формуле Сельвинского «Юность. – Подлость. – Старость», она к середине 50-х утратила всякий смысл. В этой горькой саморазоблачительной триаде точку надо было ставить раньше: старость – это уже удел других...
VII
Не раз спрашивал себя: надо ли писать о том, что в недалеком прошлом в большей или меньшей степени коснулось каждого в нашей стране – в зависимости от того, какое положение он занимал в системе общественных отношений? Да и не кощунственно ли тревожить мрачные тени созидавших ту жуткую систему и этой же системой загубленных? Не лучше ли согласиться с известной формулой поэта:
«Без нас отлично подведут итоги
И даже меньше нашего наврут...»?
Наконец, зачем вообще поминать о том, к чему возврат уже невозможен исторически? Зачем?
Но – вот аргументы Л.Н. Толстого:
«Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и еще хуже, и мне хочется обмануть себя. Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо, тогда наше новое теперешнее насилие откроется».
Но – откроется ли, если любая попытка непредвзято взглянуть на деятельность тех, кто «увлеченно строил миф о Стране Советов», незамедлительно объявляется судилищем? «Суд над этими людьми всегда предвзят, ибо не способен представить себе все исторические обстоятельства их жизни, – решительно и весьма бесцеремонно возражает автор «Российской газеты» В. Кичин. – Вынося свои тупые вердикты, он упрощает сложное. И глупейшим образом "сбрасывает с парохода современности" гениев подсудной эпохи – как мы сбросили Горького, Маяковского, Дунаевского...»36
Бог с ними, с гениями. Можно подумать, что мы так счастливы и благополучны, что нам уже и пожалеть не о ком. Важно другое: всё ли мы знаем, чтобы судить?
История русской литературы сталинской эпохи еще не написана. И, наверное, написана будет не скоро. Для истории нужны документы, необходимо время для их глубокого и беспристрастного осмысления. Пока обнародованы лишь крохи. Большей частью – с умыслом дозированные и почти всегда – тенденциозно препарированные. Профессиональному исследователю всё еще нет свободного доступа к архивам ГПУ–НКВД–КГБ, ЦК КПСС. Вместо квалифицированной публикации хранящихся в них документов, время от времени организуется их преднамеренная утечка37.
Такого рода «утечкой» стала и публикация 20 сентября 1990 года в партийном еженедельнике «Гласность» предсмертного письма Александра Фадеева. Выдержанная в духе привычных канонов социалистического реализма, публикация «Гласности» вместо естественного, казалось бы, чувства удовлетворения по поводу того, что таинственное по причине своей недоступности письмо, о содержании которого историки литературы и биографы Фадеева на протяжении трех с половиной десятилетий могли только строить догадки, наконец-то опубликовано, лишь растревожила общество, вызвала недоумение и новые вопросы.
Скажем, почему письмо, содержание которого столько лет таили даже от весьма приближенных и доверенных лиц из руководства писательского Союза (сошлемся, к примеру, на тщетные попытки познакомиться с его текстом, предпринятые в свое время А. Сурковым или В. Ажаевым), вдруг, без видимых причин спешить, предано публичной огласке, да еще печатным органом того самого ведомства, которое столько лет тщательно оберегало его от постороннего глаза? Да и самое время, выбранное для публикации письма, никак не назовешь благоприятным ни для партийных бонз, ни для самой компартии, доживавшей последние месяцы своего безраздельного владычества. Может, и в самом деле прав был Владимир Дудинцев, предположив, что подлинный текст письма уже вырвался из партийных тайников на свободу и того и гляди объявится в каком-либо неподконтрольном партийной хунте издании? «Что это, – спрашивал писатель, – доказательство быстро развивающейся демократии? Боюсь, что тем кощеям бессмертным, которые сторожили это золотое яйцо свыше 34-х лет, понимая, что в нем их, кощеев, смерть, просто стало известно, что кто-то уже к этому письму подбирается. <...> Видимо, с охраной тайны произошла драматическая осечка»38.
Однако проходят годы, а воз и ныне там. Что-то не спешат обнародовать подлинный текст письма и архивные службы нового демократического правительства России, под контроль которого переданы «золотые яйца» бывшего ЦК. Выходит, Л.Н. Толстой и тут прав: болезнь всё та же, только ее иначе зовут...
Конечно, ложь правды не сокрушит: солнце ладонью не закроешь, говорят китайцы. Худо только, что ложь эта способна оседать на правде, как пыль на придорожной траве. В том, что «Гласностью» опубликован, скажем так, неполный текст письма, едва ли кто сомневался: уж очень старался анонимный публикатор отвести подозрения в инсинуации. Однако после обнародования в «Литературной газете» письма Маргариты Алигер (оно было опубликовано под красноречивым заголовком «Где же этот текст?») – места для сомнений не осталось вовсе. Письмо невелико по объему, и потому приведем его текст полностью:
«Александр Фадеев, как известно, погиб в воскресенье.
В начале недели моего мужа, – пишет М. Алигер, – Игоря Сергеевича Черноуцана, спросил тогдашний помощник Суслова Воронцов, читал ли он предсмертное письмо, оставленное Фадеевым. И.С. ответил, что не читал этого письма, – это были первые годы его работы в Отделе культуры ЦК. "Ты в сюжете", – сказал Воронцов и через некоторое время принес И.С., не знаю, всё ли письмо или несколько страниц из него. И.С. прочитал кусок, в котором автор письма горько сетовал на то, что участники собрания – писатели, делам и нуждам которых он отдал много лет жизни, очень резко выступали, критикуя его, Это его крайне оскорбило, что и было высказано в письме. "И нашелся только один человек, молодой работник отдела культуры ЦК И.С. Черноуцан, – писал Фадеев, – который выступил против этого потока обвинений и очень горячо говорил о том, сколько времени и сил я отдал Союзу и защите писателей в самых разных ситуациях". Этим А. Фадеев был глубоко тронут.
Вот, собственно, все, что знаю я», – сообщает М. Алигер39.
Напомним: «в сюжете» опубликованного «Гласностью» предсмертного письма Фадеева нет ни слова о Черноуцане, нет и каких-либо сетований Фадеева на коллег. Воистину: где же этот текст? И только ли он «выпал» из публикации «Гласности»?
И почему публикатор не назвал себя? Почему ни слова не сказал о самом тексте письма: рукописный ли он или это машинопись, есть ли в нем вычерки и исправления, если есть – какие именно, и кому принадлежат многочисленные отточия? Наконец, кто автор вступительного слова к публикации? Кто он, этот неведомый зоил, бросивший тень тяжелого упрека и кощунственных подозрений на Маршака и Погодина, якобы подтолкнувших Фадеева к роковому решению уйти из жизни, подтолкнувших последней, произошедшей накануне смертного дня «продолжительной беседой», после которой Фадеев уже «никак не мог успокоиться»? Кто проводил «расследование», на которое ссылается анонимный публикатор, и почему до сих пор не обнародованы его материалы?..
Вопросы, вопросы и нет им числа. И как, однако, не присовокупить к ним еще и резонные вопросы, которые прозвучали в реплике «Литературной газеты» «Послесловие к публикации», появившейся 10 октября 1990 года: «...Неизвестно, кто дописывал сокращенные Фадеевым слова, корректировал знаки препинания, оставляя в то же время в неприкосновенности очевидные описки и добавляя свои. Кто, наконец, никак этого не оговорив, позволил себе сократить Фадеевский текст?
Странное дело, – продолжает автор реплики В. Радзишевский, – но сегодняшняя газета, забыв указать место хранения предсмертного письма Фадеева, а также представить тот комплекс документов, в котором оно находится, – вещи, необходимые для столь серьезной публикации, не удержалась от того, чтобы ввернуть упоминание о болезни при перечислении причин самоубийства, заботливо вороша угольки старого, дискредитирующего мифа».
И впрямь, дело странное, потому как не был Маршак у Фадеева и не вел с ним «продолжительной беседы», приблизившей роковой для Фадеева час.
Вспоминает поэт Валентин Берестов: «Перед самоубийством, как мне рассказывал С.Я. Маршак, Фадеев навестил его и еще нескольких писателей, как бы прощаясь с ними. Никто не заметил, в каком он был состоянии, кроме Т.Г. Габбе... Когда Фадеев приехал к Маршаку, она успела шепнуть: «Не о Твардовском с ним говорите, а о нем самом. Смотрите, какие у него глаза...»
Стало быть, не Маршак приезжал к Фадееву, как написано в «Гласности», а Фадеев приезжал к Маршаку, и в тяжелом моральном предшествующем самоубийству состоянии он находился еще до их встречи, а не в результате ее, как утверждается там же со ссылкой на секретаря Фадеева Е.Ф. Книпович.
В полдень 12 мая 1956 года Фадеева на даче навестил Юрий Либединский с женой. В разговоре в Либединским – а разговор этот, по воспоминаниям Лидии Либединской, «был долгий, мучительный – точнее, это был монолог страдающего человека» – Фадеев между прочим сказал, что «после обеда собирается с сыном Мишей в Москву и хочет сегодня навестить Самуила Яковлевича Маршака». Расставание Фадеева с Либединскими было в тот день, как показалось Лидии Либединской, необычным, не свойственным Фадееву – скорее похожим на прощание. И «было что-то в этом прощании, что кольнуло мне сердце», – вспоминает она.
О том, что не Маршак, а Фадеев нанес последний визит, сообщает и Валерия Иосифовна Зарахани, сестра жены и секретарь Фадеева: «12 мая была суббота, по тем временам – обычный рабочий день. Приехав с дачи в город, он занимался своими делами... Затем ездил к Маршаку. От Маршака звонил мне. Сказал, что едет на дачу. Спросил: "Ты приедешь завтра?" Я говорю: "Дай мне выходной". Ведь завтра – воскресенье. Потом мне говорили: почему ты к нему не поехала? Но он не настаивал, и голос у него был спокойный».
Подчеркнем это: Фадеев звонил от Маршака, «и голос у него был спокойный». Ничто не внушало тревоги, не вызывало ощущения надвигающейся катастрофы. А до нее, между прочим, уже оставалось менее суток.
«Фадеев застрелился днем, перед обедом, – вспоминает Корнелий Зелинский. – Перед этим он спускался вниз в халате, беседовал с рабочими, которые готовили землю под клубнику, говорил, что, где надо вскопать. В соседней комнате находилась Е. Книпович, но она сказала, что ничего не слышала. Находящиеся в саду люди слышали сильный удар, как будто бы упал стул или кресло» [c. 185].
Весьма красноречивую деталь запомнил Константин Федин – сосед Фадеева по даче, он «вместе с Вс. Ивановым первым вошел в комнату после самоубийства». «Рядом, на столике, возле широкой кровати», на которой полусидя лежал только что застрелившийся Фадеев <...> Фадеев поставил портрет Сталина». Не жены, не сына Миши, не мамы – Сталина. «Не знаю, – передает воспоминания Федина К. Зелинский, – что он этим хотел сказать – с него ли спросите или мы оба в ответе, – но это первое, что бросилось в глаза Федину» [там же].
И снова – вопросы, вопросы...
Кому, например, и зачем понадобилось бросить тень тяжелых подозрений на Маршака? Ведь если верить публикаторам из «Гласности», получается, что Маршак чуть ли не подтолкнул к гибели Фадеева. Зачем и для чего понадобилось в хронике последних суток жизни Фадеева представлять факты перевернутыми с ног на голову? Ведь если официальное расследование, на которое ссылается анонимный публикатор «Гласности», действительно было, то установить последовательность встреч Фадеева не представило бы особого труда. И почему, наконец, так внезапно повредился слух у Е.Ф. Книпович, сумевшей ничего не услышать из соседней комнаты, когда выстрел слышали даже в саду? Зачем и с какой целью утверждала она, будто «после разговора с Маршаком А.А. Фадеев никак не мог успокоиться, на него не действовали никакие снотворные средства», – ведь ни участницей разговора с Маршаком, ни домашним врачом Фадеева Евгения Федоровна Книпович не была и «снотворными средствами», надо полагать, его не потчевала. И вообще, что, собственно, такого сокрушительного, чего не знал или о чем не догадывался Фадеев, мог сообщить ему Маршак, чем окончательно вывел его из равновесия, подтолкнув к роковому решению? Проводившие официальное расследование, разумеется, не могли не поинтересоваться этим.
Иными словами, до тех пор, пока не будут обнародованы полный текст предсмертного письма Фадеева и материалы официального расследования, проводившегося по следам этого трагического события, любой вывод о непосредственных причинах самоубийства писателя будет только предположением. И предположения эти будут множиться и обрастать легендами, как множатся и обрастают легендами версии «самоубийств», к примеру, Владимира Маяковского или Сергея Есенина.
Не более чем версия и эти заметки. На наш взгляд, бесспорно одно: трагическое решение Фадеева свести счеты с жизнью не было результатом эпизодического эмоционального потрясения, как это кое-кому хотелось бы представить. В той новой, послесталинской эпохе, в которую вступала затерроризированная страна, места для него, живого, не было – он это понял. А начать жизнь с чистого листа уже не позволяли ни годы, ни груз непоправимых ошибок и поступков, терзавших совесть, ни сотоварищи по ремеслу, не желавшие ни понять, ни простить содеянное. «Жизнъ моя как писателя теряет всякий смысл, – с трагической смиренностью напишет в предсмертном письме Фадеев, – и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушиваются подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни...»
В сущности, предсмертное письмо Александра Фадеева – даже в варианте, обнародованном «Гласностью», – документ потрясающей взрывчатой силы, не оставляющий камня на камне от пресловутой идеи так называемого «партийного руководства» литературой: эту бредовую идею, оказавшую драматическое воздействие на судьбу национальной культуры, подверг уничтожающей критике человек, верой и правдой послуживший ей, утверждавший ее всячески, принесший в жертву ей и свой талант, и свою творческую свободу, и свою жизнь. «Его письмо, – справедливо заметил Евг. Евтушенко, – великий предупредительный документ о том, как губительна служба у дьявола, который с лицедейской ловкостью может показаться богом – хотя бы временно».
Коммунистическая дьяволиада закончила свой кровавый век. Российская культура понесла колоссальные потери. И среди этих потерь, быть может, самая трудно восполнимая – почти полное разрушение преемственности исторического развития духовной христианской традиции. Мракобесие коммунистического атеизма привело к трагическому разрыву в эволюции русской национальной культуры. Большевистский дьявол-молох в течение семи десятилетий нещадно истреблял духовный генофонд нации. Только из числа членов писательского Союза страны за эти годы расстреляны почти две тысячи человек, свыше тысячи вернулись из лагерей с непоправимо разрушенным здоровьем, изломанными либо раздавленными духовно. А кто считал умерших во время следствия, инквизиторских допросов, в заключении, в ссылке? Кто знает, сколько их, образованнейших и талантливейших людей России, навсегда осталось в вечной мерзлоте Чукотки, Магадана, Воркуты, Норильска, сколько их, безымянных, лежит в земле Котласа и Тобольска, Соловецких островов и печально знаменитого Карлага? Говорят, мир на костях стоит. Похоже, это про наш только мир и сказано, про наш «большевистский рай».
Последствия партийного руководства литературой и искусством – самые негативные, они чудовищны по своим масштабам. Их тлетворное воздействие на литературно-художественный процесс продолжается и еще долго будет сопутствовать ему как дурная болезнь. «Мы больше командуем, чем воспитываем, больше приказываем, чем объясняем», – это понял даже Фадеев. Правда, поздно понял и сказал об этом вслух лишь осенью 1953-го. Но ведь многие и сегодня, спустя полвека, всё еще тоскуют по партийному «кнуту» и «прянику». И как многолико, как изобретательно проявляется эта тоска! Скажем, когда в школьном классе или студенческой аудитории горестно сетуют на отсутствие единой «выверенной» истории отечественной словесности – что это, как не тоска единомыслию по тому времени и той стране, «где так вольно дышит человек»?
«Скажу прямо: я не вижу ни возможности, ни надобности в некой единственно правильной истории литературы. Тосковать о такой истории побуждает только наша заскорузлая «винтиковая» любовь к единожды установленному, обязательно утвержденному наверху и неукоснительно соблюдаемому канону, при котором все иначе мыслящие тут же получают ярлык уклониста, ревизиониста, релятивиста»40.
Напомню: это было сказано еще в годы так называемой «перестройки». Многие ли захотели услышать эти слова? Увы... Наверное, самое трудное – это осознать, как мало мы изменились. Страна уже вроде бы другая, а мы по-прежнему рабы той античеловеческой системы, по-прежнему её рабы... Признание этой истины болезненно для нашего самолюбия, однако не признав ее, мы никогда не станем другими.
VIII
В автобиографической хронике «Бодался теленок с дубом»41 А.И. Солженицын с горечью обронил: «У нас ложь стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом». Воистину так. Какой страницы официальной истории отечественной культуры не коснись – всюду ложь либо на лжи замешано. Причем, характерно: чем крупнее художник, чем он больше был на виду – тем отчаяннее про него лгали казенные летописцы. Впрочем, почему – лгали? Безнаказанные, они бесстыдно лгут и сегодня. Самые прыткие проворно «перестроились». Как в свое время писал еще Мих. Лифшиц, этих людей «природа в таком изобилии одарила чувством нового, что они всегда правы, всегда впереди прогресса, всегда не помнят, что говорили вчера, и всегда, в сущности, повторяют одну и ту же "бодягу", то непробиваемую, как застывший железобетон, то жидкую, как эклектическая каша». Теперь же, легко и походя, с высокомерным небрежением они поплевывают вослед тем, кому еще вчера поклонялись и подражали, кому, в сущности, подражают и сегодня, подражают даже вопреки желанию, потому как по-другому ни думать, ни жить не обучены.
Нужны примеры? – их сколько угодно.
В одной уважаемой российской газете читаем такой вот странный пассаж: «На фоне какого-нибудь Фадеева или Суркова никто не замечал Платонова и Мандельштама»42. Подумалось: ну зачем уж так горячиться: «никто не замечал»... Замечали – если печатали, конечно, – и тех, и других. Вот только отмечали по-разному: одних – орденами и премиями, других – тюрьмами да ссылками, отлучением от литературы. И потом: почему «какого-нибудь»? Да, был А.А. Фадеев – угодливый сочинитель биографии сталинского наркома Ежова и вымученных верноподданнических романов «Молодая гвардия» и «Черная металлургия». И, несомненно, останется на века Александр Фадеев – автор бессмертной и, к сожалению, тоже оболганной книги «Разгром».
Речь о другом: приличествует ли современному литературоведу, к тому же стихотворцу, перенимать стиль и манеры лефовских зоилов? Те-то хоть не лукавили, писали – будто шапкой махали и дум своих заветных не скрывали, самые навязчивые – прямиком в заголовок: «Разгром Фадеева», разгром без кавычек – просто, целеуказуще и доходчиво. Ужели и ныне, после стольких лет крайнего озлобления и бессмысленных потерь – снова за шашки? Поостыть бы, осмотреться да поразмыслить, к примеру, о том – до чего домахались и с чем остались? Куда идем? И главное – с чем?..
Много лет назад М. Горький, устав от междоусобных драчек, неожиданно вступился за коллегу, которого, мягко говоря, недолюбливал, сетуя: «У нас на святой Руси не умеют ни похвалить, ни похулить человека: ежели хвалить начнут – вознесут выше леса стоячего, а примутся хулить – прямо втопчут в грязь».
Уж столько воды утекло с той поры, однако нравы «на святой Руси», похоже, переменились мало. Весьма показательным в этом смысле был, к примеру, 90-летний юбилей А. Фадеева 24 декабря 1991 года. Наверное, не меня одного удивило беспамятство, в одночасье поразившее всю российскую прессу – ту самую, которая ещё десятью годами раньше, по случаю 80-летия этого же писателя, не в меру сладко и наперебой вещала миру о «славном» юбилее. О самоубийстве писателя и его причинах эта самая пресса, понятное дело, стыдливо умалчивала, зато в оценках деятельности юбиляра, помнится, не скупился никто. Одни заголовки чего стоят: «Властитель дум» (хотя властителем дум Фадеев, понятное дело, никогда не был), «Певец революции», «Мечтой окрыленный», «Художник, патриот» и т.д., и т.п. Призванные возбудить в читателе прилив верноподданнических чувств и внушить почтение к юбиляру и несчастному Отечеству, им воспетому, заголовки эти, да и сами статьи, меньше всего вызывали желание обратиться к книгам писателя. С больших и малых трибун, едва ли не на всех языках доживающего свой век Союза Советов лилось нескончаемым потоком дежурное, помпезно-фалъшивое «Слово о Фадееве». Угодливо бесновалось радио, терялось в выборе приличествующих моменту торжественных сюжетов телевидение... – словом, всё шло, как и всегда: придворное «прогрессивное человечество» по привычке захлебывалось в славословии. А тут, десять лет спустя, как по команде (впрочем, в запуганной, затерроризированной большевиками стране все юбилеи отмечали по команде) вдруг онемели все разом.
Успели забыть? Или обществу нашему и в самом деле, как сказала Л.Я. Гинзбург, присущи только «две формы обращения с литературными ценностями прошлого – оплевывание и облизывание»43?
Случившийся ещё через десять лет вековой юбилей только подтвердил её догадку: а мы и вправду другого языка не знаем...
Всеобщее озлобление, воспитывавшееся десятилетиями в каждом из нас безнравственной коммунистической системой, уже дало свои ядовитые плоды. В литературной среде это наиболее заметно проявляется в снижении этического тона: «Он мог бы стать... Он стал советским функционером, литературным сановником, верным слугой режима, мучеником догмата… Первый роман Фадеева стал его последней удачей... Впереди было еще сорок лет жизни и литературной работы... Метафора разгрома стала итогом его судьбы…»44
По существу сказано все верно, а вот по форме... Так ли уж это далеко от оценок типа «какой-нибудь Фадеев»?..
В «Дневнике писателя» за 1876 год Ф.М. Достоевского читаем: «Истребление себя есть вещь серьезная <...>. Страдание тут очевидное <...>. К такому состоянию духа надо относиться человеколюбивее и отнюдь не так высокомерно <…>. В фактах этих, может быть, мы и сами все виноваты…»45.
Будто это нам, нынешним, в назидание сказано.
Сегодня, может быть, не самое лучшее время звать к всепрощению, милосердию и доброте. Но милосердие – это, пожалуй, то единственное, что еще способно остановить нарастающую волну озлобления, пробудить и мобилизовать в каждом нравственные силы, которые могут не только противостоять разрушительной работе зла, но и приумножить добро. Мне кажется, об этом же в связи с гибелью Фадеева говорил и Евг. Евтушенко: «Самоубийство, конечно, грех, но догматизм всенепрощающий не менее безнравственен, чем всепрощающая вседозволенность. Самодовольные убийцы, и не помышляющие о самоубийстве, – вот кто страшен. Фадеев принадлежит к людям, достойным христианской ненадменной жалости, но не презрения. Древнее выражение "кровью искупил свой позор" – это и о Фадееве»46.
Не будем лукавить: «христианская ненадменная жалость», к которой взывает поэт, необходима сегодня даже не столько по отношению к Фадееву. Она необходима нам самим – для того, чтобы жить дальше. Стремясь не осудить, а понять, мы, возможно, придем к осознанию сути и масштабов произошедшего со страной, ее культурой. Самоубийство Фадеева – это, как сказал бы Альбер Камю, своего рода «педагогическое самоубийство»47. В том смысле, что Фадеев, если угодно, принес себя в жертву нам всем: и тем, кто остался жить после него, так ничего в этой жизни не поняв; и тем, кто пришел или еще только придет в эту новую нарождающуюся систему человеческих отношений, чтобы наполнить ее новым, подлинно нравственным смыслом.
***
«Ну и каков же вывод?» – спросит иной читатель, осиливший эти заметки.
А вывод весьма прост: я не призываю осудить Фадеева, хотя он и заслуживает осуждения; не настаиваю на прощении, хотя он успел сделать немало и такого, что заслуживает восхищения даже. Нет, это совсем не тот случай, когда надо определиться, где поставить запятую в известной формуле «казнить нельзя помиловать». Почему-то вспомнилась надпись, которую сделал в последний год своей жизни Л.Н. Толстой на обороте собственной фотокарточки, подаренной отбывающему заключение социал-демократу А. Руфину: «Среди наших чувств и убеждений есть такие, которые соединяют нас со всеми людьми, и есть такие, которые разъединяют. Будем же утверждать себя в первых и руководствоваться ими в жизни и, напротив, сдерживаться и осторожно руководствоваться, в словах и поступках, чувствами и убеждениями, которые не соединяют, а разъединяют людей»48.
Может быть, прислушаемся к словам великого старца и – подумаем о себе?
2005 г.
Примечания:
1. Пастернак Б. Люди и положения: Автобиографический очерк / Борис Пастернак об искусстве: «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. – М.: Искусство, 1990. – С. 225.
2. Цветаева М.И. Цит. по: Белкина М. Скрещение судеб. – М.: Книга, 1988. – С. 320.
3. Пастернак Б. Люди и положения: Автобиографический очерк / Борис Пастернак об искусстве: «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. – М.: Искусство, 1990. – С. 225.
4. См.: Коротков Ю. Самоубийства советских писателей // Новый журнал. – США, 1968. – № 91. Перепечатано: // Совершенно секретно. – М., 1991. См. об этом: // Родина. – М., 1991. – № 11–12. – С. 112.
5. Гинзбург Л. Литература в поисках реальности: Статьи, эссе, заметки. – Л.: Сов. писатель, 1987. – С. 326, 327.
6. Бушмин А. Александр Фадеев: Черты творческой индивидуальности: Издание второе, доп. – Л.: Худож. лит., 1983. – С. 218.
7. Фадеев А. Письма: 1916–1956. – М., 1967. – С. 194.
8. Там же.
9. Бушмин А. Александр Фадеев: Черты творческой индивидуальности: Издание второе, доп. – Л.: Худож. лит., 1983. – С. 265.
10. // Вопросы литературы. – 1991. – № 1. – С. 195.
11. Зелинский К. В июне 1954 года // Вопросы литературы. – 1989. – № 6. –С. 184. Далее номера страниц указаны в тексте.
12. Шешуков С.И. Неистовые ревнители: Из истории литературной борьбы 20-х годов. – М.: Моск. рабочий, 1970. – С. 249.
13. См. об этом: Иванов Вяч. Вс. Почему Сталин убил Горького? // Вопросы литературы. – 1993. – Вып. I. – С. 118–119.
14. Черноуцан И. В те 30-е годы: Из воспоминаний об ИФЛИ и ифлийцах // Литературная газета. – 1989. – 14 июня.
15. Как утверждает К. Зелинский [с. 184], эта фраза «потом была вычеркнута из стенограммы».
16. Конецкий В. «Живу в тени вопроса...» // Книжное обозрение. – 1988. – 9 дек. – С. 6.
17. Цит. по: Обертынский А. «Тихий Дон» читает машина... // Литературная газета. – 1990. – 28 февр.
18. // Литературная газета. – 1949. – 2 марта.
19. О ранней смерти Тарасенкова Ариадна Эфрон сказала: умер «от двуличия и двуязычия эпохи... от ее излучения».
20. Цит. по: Белкина М. Скрещение судеб... – С. 58.
21. Цит. по: Михайлов 0. Реквием / Рукописи не горят... (Из антологии русской прозы XX века). — М.: Мол. гвардия, 1990. – С. 7.
22. Справедливости ради отметим: поведение Фадеева в этой истории не было однозначным. После известного постановления ЦК КПСС Ахматову и Зощенко не только исключили из писательского Союза, но и лишили продовольственных карточек. Узнав об этом, Фадеев лично привез карточки: постановление ЦК к голодной смерти вас не приговаривало, сказал он. Подробнее об этом см.: Погореловский С. Проблеск и во тьме // Нева. – 1989. – № 4.
23. Цит. по: Белкина М. Скрещение судеб... – С. 83. Далее номера страниц указаны в тексте.
24. Цветаева просила Фадеева помочь вызволить ее рукописи, книги и вещи, задержанные таможней. Багаж, уезжая из Парижа на родину, М.И. послала на имя дочери Ариадны Эфрон. После ареста дочери в выдаче багажа М.И. Цветаевой было отказано.
25. Директор голицынского Дома писателей.
26. Подробнее об этом см.: Белкина М. Скрещение судеб... – С. 313.
27. // Известия ЦК КПСС. – 1990. – № 5. – С. 217–218.
28. Зелинский К. В июне 1954 года... – С. 174.
29. См., напр., об этом же: // Звезда. – 1990. – № 6. – С. 154.
30. // Литературная газета. – 1990. – 10 окт.
31. Шешуков С. Неистовые ревнители... – С. 250.
32. Цит. по: Обертынский А. «Тихий Дон» читает машина... // Литературная газета. – 1990. – 28 февр.
33. Иванов Вяч. Вс. Почему Сталин убил Горького? // Вопросы литературы. – 1993. – Вып. I. – С. 117–119.
34. Фадеев А. Письма: 1916–1956. – М., 1967. – С. 429.
35. Союз писателей СССР перед своим Вторым съездом: По материалам Центра хранения современной документации // Вопросы литературы. – 1993. – Вып. Ш. – С. 220. Далее номера страниц указаны в тексте.
36. Кичин В. Пожать руку дьяволу // Российская газета. – 2003. – 19 нояб.
37. Но даже то малое, что стало доступно, – ужасает масштабами моральных компромиссов с преступным режимом, потрясает готовностью к предательству, нетерпеливым желанием угадать и подсказать дряхлеющим инквизиторам имена тех, кто мог бы стать новой жертвой кровожадного коммунистического режима. К примеру, всё тот же А.А. Фадеев (в соавторстве с Сурковым и Симоновым) в конце марта 1953 года, то есть уже после смерти диктатора, обращается в ЦК с невозможной для нормального человека, тем более писателя, юдофобской докладной запиской «О мерах Секретариата Союза писателей по освобождению писательской организации от балласта», в которой сетовал на то, что «в результате сниженных требований, приятельских отношений, а в ряде случаев и в результате замаскированных проявлений националистической семейственности» писательский Союз непомерно отягощен «балластом» – писателями еврейской национальности: вот только в московском отделении СП их уже 29,8 процентов. И далее воодушевленно, с изуверским энтузиазмом рапортовал о том, скольких уже изгнали из СП, сколько человек намечено к изгнанию и какая просто захватывающая творческий дух работа по освобождению СП от «балласта» предстоит. Подробнее см.: Файман Г. Уголовная история советской литературы и театра. – М.: Агриф, 2003; Золотоносов М. Пиня из Жмеринки // Московские новости. – 2003. – № 44. – С. 24.
38. Дудинцев В. Три ушата партийной воды // Литературная газета. – 1990. – 10 окт.
39. Алигер М. Где же этот текст? // Литературная газета. – 1990. – 10 окт.
40. Бочаров А. Покушение на миражи // Вопросы литературы. – 1988. – № 1. – С. 43.
41. // Новый мир. – 1991. – № 8. – С. 120.
42. Кедров К. Литературный разъезд // Известия. – 1992. – 17 янв.
43. Гинзбург Л. Литература в поисках реальности: Статьи, эссе, заметки. – Л.: Сов. писатель, 1987. – С. 326.
44. Сухих И. Догма долга: 1925–1926. «Разгром» А. Фадеева // Звезда. – 1999. – № 10. – С. 233.
45. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. – Т. 24. – С. 34.
46. Евтушенко Е. Подальше от царей! // Литературная газета. – 1990. – 10 окт.
47. Камю А. Кириллов // Бунтующий человек. – М., 1990. – С. 83.
48. См.: Булгаков В. Л.Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н. Толстого. – М., 1989. – С. 299.
© В.Я. Вакуленко, 2006
© КРСУ, 2006
Количество просмотров: 10019 |


