Главная / Искусствоведческие работы, Изобразительное искусство / Документальная и биографическая литература, Биографии, мемуары; очерки, интервью о жизни и творчестве / Документальная и биографическая литература, Серия "Жизнь замечательных людей Кыргызстана"
© Издательство "ЖЗЛК", 2003. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения автора и издательства
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 22 декабря 2008 года
Семен Чуйков
(документальная повесть)
Издательство ЖЗЛК продолжает выпуск серии книг о замечательных людях Кыргызстана, о тех, кто внес ощутимый вклад в историю страны, кто своей судьбой явил образец достойного служения Отечеству. В этой книге писатель Леонид Дядюченко рассказывает о выдающемся художнике Семене Афанасьевиче Чуйкове, чье творчество широко известно не только в нашей республике, но и во многих странах мира. «Это такой мастер кисти, каких природа рождает в редкие мгновения своих счастливых озарений», – емко сказал о нем замечательный скульптор, президент Национальной академии художеств Кыргызской Республики Тургунбай Садыков
Публикуется по книге: Семен Чуйков: Документальная повесть. – (Жизнь замечательных людей Кыргызстана). Б.: 2003. – 276 с. – илл.
ББК 84Р-7 4
Д-99
ISBN 9967-21-861-4
Д 4702010201-03
Главный редактор ИВАНОВ Александр
Шеф-редактор РЯБОВ Олег
Редакционная коллегия:
АКМАТОВ Казат
БАЗАРОВ Геннадий
КОЙЧУЕВ Турар
ПЛОСКИХ Владимир
РУДОВ Михаил
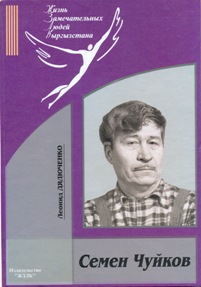
Тот, кому случалось, как мне,
бродить по горам пустынным и
долго-долго всматриваться в их
причудливые образы и жадно глотать
животворящий воздух, разлитой в их ущельях,
тот, конечно, поймет мое желание передать,
рассказать, нарисовать эти волшебные картины.
М.Лермонтов
"Киргизский мотив"
Когда в мае 1976 года мне в издательстве «Кыргызстан» вручили долгожданный авторский экземпляр повести «Киргизский мотив», я при первом же взгляде был, как говорится, совершенно убит. На белую, мягкую обложку этой небольшой, размером с блокнот, книжки была косовато впечатана еще более карманного формата цветная репродукция картины «Вечер», написанная Чуйковым в 1948 году. К тому же репродукция была обрезана небрежно, с захлестами типографской краски по неровным краям. И эта небрежность так бросалась в глаза, что ни о чем другом уже не хотелось говорить, хотя и сам выбор издательством этой рядовой для художника картины меня совершенно не убедил. Я бы предпочел для единственной цветной репродукции этого издания что-нибудь более значимое, более выразительное, как это делали московские издательства «Искусство», Академии художеств СССР и Третьяковской галереи, представляя живопись Семена Афанасьевича Чуйкова наиболее громко прозвучавшими работами. Необязательно, конечно, было давать такие широко известные полотна,
как «Девочка с арбузом» или «Песня кули», но у кого-кого, а уж у Чуйкова есть что выбрать! Да и имя какое!
Народный художник СССР. Народный художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР. Действительный член Академии художеств СССР, дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула, лауреат премии Джавахарлала Неру, живописец, творчество которого в течение десятилетий находилось на авансцене общественного и профессионального внимания не только на родине, но и, как принято говорить, далеко за ее пределами.
В библиографическом указателе, выпущенном во Фрунзе еще в 1965 году, упоминается более ста авторов различнейших публикаций, посвященных либо обзору всего творчества, либо отдельным выставкам и полотнам Чуйкова, репортажам из его фрунзенской и московской мастерских. Самые известные, самые авторитетные знатоки и теоретики изобразительного искусства, такие, как И. Грабарь, М. Алпатов, О. Сопоцинский, А. Федоров-Давыдов, А. Чегодаев и многие, многие другие, считали необходимым в своих монографических трудах уделить особое внимание творчеству уроженца Чуйской долины в самом комплиментарном тоне, отмечая не только живописные достоинства его пейзажей и жанровых картин, но и гуманистическую, философскую сущность его эстетики.
Неудивительно, что репродукции картин Чуйкова постоянно печатались в таких популярных изданиях, как «Огонек», «Юность», «Работница», «Искусство», «Художник», «Творчество», «Советский экран», «Вокруг света», а также в «Литературной газете», в «Советской культуре», в «Комсомольской правде» и в других газетах, начало чему положили статья Я. Тугенхольда «Искусство народов СССР» («Печать и революция», 1927 г., № 8), корреспонденция Н. Чекменева «Семен Чуйков», в которой это имя впервые появляется на страницах кыргызстанской прессы («Советская Киргизия», 1929 г., 15 августа), репортаж А. Эфроса «По художественным выставкам» («Прожектор», 1929 г., № 22). А сколько было написано и опубликовано обще-ознакомительных материалов к альбомам и буклетам, к каталогам и еженедельным календарям по искусству, в дружественном хоре которых особенно выделялись вступительные тексты к альбомам увлеченного биографа художника – Дмитрия Сарабьянова. После его монографии «Семен Афанасьевич Чуйков», прекрасно изданной в Москве еще в 1958 году, мне казалось излишней затея делать что-то еще, писать бог весть о чем непоказанном и недосказанном.
И вот эта затея осуществлена. И на обложке – нечто ну самое такое заурядное, что в киргизских селах можно видеть чуть ли не на каждом шагу – летний вечер, гаснущие в вечерней дымке дальние предгорья, а на переднем плане – охряное от предзакатного света поле пшеницы, сквозь волны которого размеренно плывет белая неказистая лошадь, привычно несущая на своей спине двух сельских ребятишек: впереди – рослая девочка с охапкой свеженарванной травы в руках, сзади, обхватив сестренку обеими руками, примостился мальчишечка в заломленном на затылок картузе. Девочка отвлеченно смотрит куда-то далеко вперед, мальчишечка весь повернулся в сторону закатного солнца, а лошадь искоса, одним глазом глянула на художника, дескать, может быть, хватит позировать, пора домой, пока не стемнело, сколько можно?
И все это получилось в печати блекло, невыразительно как по цвету, так и по мысли, и от того, что уже ничего нельзя исправить, я и вовсе упал духом, впервые, может быть, пожалев, что дал втянуть себя в это «дело».
Надо сказать, что мы с издательскими работниками обсуждали макет книги. И, зная технические возможности местных типографий, решили не давать цветных репродукций, согласовав этот деликатный вопрос с Чуйковым – как же так, книжка о живописи и без цвета? Но дело было зимой, а зимой Чуйков во Фрунзе не приезжал и, значит, не мог сам вести корректуру цветных, да и черно-белых вклеек, что он обязательно и самым тщательным образом проделывал в Москве, о чем, в частности, тоже шла речь в моей рукописи. Нам проще было отказаться от цветных иллюстраций еще и по той причине, не говоря уж об их дороговизне, что в изданной в 1963 году «Молодой Гвардией» книге самого Чуйкова – «Заметки художника», среди 76 репродукций, отобранных автором, шедевров мирового изобразительного искусства, где в одном ряду были представлены Леонардо да Винчи, Тициан, Рембрандт, Веласкес, Александр Иванов, Репин, Серов, Суриков, Левитан, Врубель, Милле, Сезанн, Ван Гог, Пикассо, Гуттузо, Кончаловский, Сарьян и так далее, он не решился дать в цвете ни одной картины.
А тут вдруг – цвет. Причем на обложке. Да еще и кое-как. Из авторских экземпляров я попытался отобрать наиболее пропечатанный, хотя, конечно, все они были одинаковы. Отправив Чуйкову, стал с опасением ждать его ответа. Уж я-то знал, что он мог бы написать. Он открытку с изображением своего пейзажа, а такие открытки выпускались в те годы издательством «Советский художник», не дарил без того, чтобы на ходу, фломастером или цветным карандашом не убрать или не поправить какой-нибудь никому не заметный цветовой рефлекс, случайно проскочивший при массовой печати.
А книжка «Киргизский мотив» все это время лежала у меня на письменном столе, и с нею стали происходить вполне отчетливые, но тем не менее невероятные вещи. Или все-таки – со мной? Словом, я стал привыкать к ее обложке, и меня уже не раздражала очевидная небрежность в технической подаче клише, потому что все изысканней и насыщенней в своих колористических нюансах стало проступать главное – живопись.
И эти зажженные уходящим солнцем красные колосья, сквозь колеблющееся полымя которых все-таки пробивается темная сочность травы. И закатный багрянец на лицах и выгоревшей одежонке детей, на их загорелых босых ногах, и подсвеченная этим багрянцем палевая дымка, и растворившиеся в ней предгорья, и небо, высокое, постепенно, сквозь неясные разводья, переходящее к зениту в остывающую прозелень и синеву. Как я не видел этого раньше? И мне вдруг вспомнилась как-то невзначай брошенная фраза живописца от бога Джамбула Джумабаева о том, что картину нельзя понять и прочувствовать сразу, что с ней надо сжиться, уверовать в ее исключительность, в ее единственно возможную данность, и лишь тогда она раскроется во всей своей значимости и глубине.
А может, тому причиной сама история создания этой картины, вернее, история написания этюдов белой лошади, о чем я вычитал еще в книжке Чуйкова «Записки художника»?
Конечно, могут сказать, зачем пересказывать, если это описано самим художником, но та книжка издавалась давно, найти ее не так просто, а забавный этот эпизод очень характерен для творчества живописца, для его этюдной практики, а значит, и для понимания его художественных основ.
Словом, задумав картину о том, как двое ребятишек едут на белой лошади через хлебное поле, он взялся за этюды. В течение месяца ему удалось пописать и ребятишек, и пейзаж, но найти нужную по замыслу белую, вернее, сероватую лошадь никак не удавалось. Были любые другие, а вот серой в том колхозе, где художник обосновался для работы, не было. Пришлось перекочевать в соседнее село, и, едва нашел дом, где можно было остановиться, сразу увидел «свою» лошадь: она паслась целый день на ближайшем пригорке.
Радость, однако, оказалась преждевременной. Несколько дней ушло на то, чтобы найти хозяина лошади. Еще несколько, чтобы уговорить его привести лошадь в нужное место и в нужное время – к вечеру. Но он привел лишь следующим утром. Вновь начались переговоры.
— Мне утром не надо.
— Не надо, так не надо, а вечером я не могу.
Не мог он и все последующие дни. То ездил на базар, то одолжил лошадь приятелю, то у него гости. Конечно, можно было писать эту лошадь и во дворе хозяина, но там фон – дувал, тенистые деревья, а такой этюд совершенно не нужен. Наконец удалось получить разрешение самому увести лошадь на поле, тем более что у хозяина была дочка, девочка лет десяти. Вот тогда и удалось поработать минут двадцать, до заката солнца, в надежде, что такую попытку можно будет повторить и на следующий день. Но на следующий день не удалось, не получилось и через два, и через три дня, все что-нибудь мешало, хотя днем художник мог сколько угодно любоваться своей натурой, которая днем, в дневном режиме освещения, была ему совершенно не нужна. А тем временем на поле вышли комбайны, и надо было искать, пока не поздно, другое поле. И когда, потеряв полтора месяца, художник был вынужден уехать из села, его проводили ворчливым упреком – «замучил всех этой лошадью».
Но и в следующем селе было все не проще, потому что пока лошадь нашлась, испортилась погода, а с солнцем договариваться еще трудней, но если все-таки удалось дождаться нужного освещения, то в самый разгар сеанса неожиданно закапризничал хозяйский шестилетний мальчонка, которому надоело сидеть в заданной позе на неоседланной лошади. Он заревел, убежал домой, и уговорить его вернуться оказалось не легче, чем уговорить солнце. И, конечно, о всех своих мытарствах художник рассказывал фрунзенским художникам, прочим знакомым, и все искренне потешались, и приговаривали «мне бы твои заботы», а один из них, работавший министром совхозов, отсмеявшись и вытирая слезы, предложил свою помощь: — Вот мой прямой телефон. Звоните. Надо было сразу обратиться ко мне. У нас замечательные коневоды есть. Да я вам лучших скакунов хоть завтра организую!
— Мне не надо скакунов, — испугался художник, — мне обыкновенную серую лошадку надо. На один час. Перед закатом.
— Да хоть сотню! Только позвоните!
Художник знал, чем это кончится, и все же позвонил. Так воспитан, что делать. Конечно, министра не было. Уехал по республике. А когда приехал – его вызвали в ЦК. Секретарша передала телефон, по которому надо будет позвонить начальнику управления коневодства, он в курсе, и все сделает. Еще несколько дней и десятки звонков, чтобы застать начальника по коневодству. А когда застал – с первых же слов, по одной интонации понял всю бестактность своего обращения к занятым людям, которым только и осталось, что разыскивать ради какой-то блажи серую кобылу. Больше он никому не звонил, а когда осенью пришло время уезжать в Москву, в прощальной компании развеселившихся художников пришлось выслушать хоровую песню об одном столичном живописце, который безуспешно все лето гонялся по всей Киргизии за серой лошадью, умоляя остановиться и стать его натурщицей, а когда он уезжал не солоно хлебавши домой, за его поездом гнался целый табун серых лошадей с призывным ржаньем – нарисуй меня, нарисуй!
Шутки шутками, но если ему нужна серая лошадь, он будет работать только с серой, и никакая гнедая, рыжая, вороная ему не нужна. Так было и в предгорьях за Орто-Саем, где он писал тюльпаны для картины «Цветы Киргизии». Но пока он работал над этими этюдами и не успел, как он чувствовал, собрать весь необходимый материал, тюльпаны Орто-Сая отцвели. Кинулся он искать еще неотцветшие на новых склонах – найти не мог.
— Что вы мучаетесь, — говорили ему, — да купите у «Ала-Тоо» культурные тюльпаны, какая разница? – Не купил. Поехал за Курдай, там кое-как нашел. Настоящие. Вольные. Те, которые и вошли в картину.
И точно так же в многомиллионом Дели он долго и безуспешно ищет девушку для этюдов картины «Песня кули». Принимавшие Чуйкова индийские друзья не раз допытывались, какую именно девушку он ищет, но он не мог бы ответить и самому себе. И только за несколько дней до отъезда, когда всякие надежды были уже утрачены, во время посещения одного художественного колледжа он увидел это лицо, вернее, нужное ему выражение, которое уже давно, оказывается, жило в его воображении. И вот – все совпало. И это был один из самых мгновенных и почти полностью вошедших в картину этюдов, во многом решивший счастливую судьбу не только одной картины, но и оказавшийся кодовым знаком ко всей индийской серии Семена Чуйкова.
И только ли индийской? При самом беглом прочтении таких книг Чуйкова, как «Записки художника», «Образы Индии», «Итальянский дневник», невольно обращаешь внимание на то обстоятельство, что весьма существенная часть работы над картиной приходится у него на этюды, хотя многие художники, считающие себя современными, этот подготовительный этап считают глубоким анахронизмом. И Чуйков при каждом удобном случае размышляет о роли и значении этого замечательного анахронизма прежде всего в своей личной художнической практике, тем более что нередко этюдником ему служит обычный блокнот для путевых заметок.
И чем ближе я узнавал этого человека, те принципы, которыми он руководствовался в своей жизни, чем глубже познавал меру требовательности, которую он предъявлял прежде всего к своей работе, тем больше я чувствовал себя на обрывистом склоне, по которому легкомысленно, не соизмерив своих возможностей, решил подняться на вершину горы, не представляя даже, что ждет меня за ближайшим углом нависающих скал…
А тут получаю от него письмо, как всегда уместившееся на половине выдранного из какого-то старого блокнота листа – Чуйков бережно относился к чистой бумаге. Поблагодарил меня за бандероль, написал, что «в общем хорошая книжка получилась. Даже подумалось, что если мои «акции» в дальнейшем не упадут, то она может выйти и вторым (улучшенным) изданием в каком-нибудь московском издательстве».
Я облегченно вздохнул. Но для меня самого вопрос остался. Почему академик живописи, большой художник современности, широко и заслуженно известный мастер, достигший всех степеней признания общества и профессионального мира, после целой серии альбомов, монографий и прочих публикаций самых серьезных центральных издательств уделяет столь настойчивое внимание скромной очерковой книжке местного издательства? Или именно это обстоятельство, что «местное», и имеет для него особый смысл?
Какой? Может, он надеялся, что столь не академическое, не искусствоведческое повествование и ответит на этот вопрос? В то время я работал собкором газеты «Советская Киргизия», много ездил по республике, довольно часто публикуя материалы краеведческого толка, в том числе и о горах. А увлечение альпинизмом опять-таки отзывалось публикациями на тему гор. Именно поэтому летом 1964 года дипломированный искусствовед, заведующий отделом искусств газеты «Советская Киргизия» Александр Ильич Боров, поручил мне как младшему коллеге написать очерк о певце гор – художнике Семене Чуйкове. И хотя всегда было интересно открывать для себя какую-нибудь новую тему, выступать в роли искусствоведа я опасался.
— А ты и не выступай, — на правах старшего успокаивал меня Александр Ильич, — вы на горах столкуетесь, по-соседски.
Я жил тогда по Южной, 95, а мастерская Чуйкова была под номером 97.
Дорога на Кашка-Суу
Летом я нередко видел кряжистую фигуру Чуйкова на нашей улице. Одного или с Евгенией Алексеевной Малеиной, его женой, когда чета художников проходила мимо наших окон, направляясь в сторону бульвара Дзержинского по каким-то неведомым мне делам. Иной раз при встрече впору было здороваться, но навязываться в знакомство пожилым именитым людям я не считал для себя возможным. Однако как-то нас познакомили. Знакомство прошло легко, на шутливой ноте, причем Чуйков заявил, что в общем-то мы давно знакомы, поскольку он не раз видел меня «на нашей улице». Затем я получил предложение составить компанию в поездке на этюды, в частности, на речку Кашка-Суу, где и расположено его «самое любимое местечко». Мне оставалось только «оказать честь» и залезть в чуйковский газик, на котором художник навещал свои «любимые местечки». Привлекла и интрига. Что именно лауреат Государственных премий смог увидеть в том ничем не примечательном боковом ущельице, миновать которое фрунзенская молодежь обычно старается побыстрее, торопясь в общепризнанную Мекку альпинистского, туристского люда – в ущелье Ала-Арча. Да, Ала-Арча – это совсем другое дело. Там возвышаются над зубчаткой ельника словно специально созданные для живописцев горы Теке-Тор, Корона, Ала-Арчинский пик, острый силуэт которого так напоминает то ли средневековый собор, то ли рыцарский замок. И вдруг выясняется, что Чуйков никогда не писал горной Ала-Арчи, ни Короны, ни Теке-Тора, никогда не поднимался выше Кашка-Суу, каменистой, поросшей шиповником пустоши у подножия столь же ничем не примечательных взгорий. Правда, если подняться вверх по течению этой речушки, можно увидеть водопад, а с серпантинов ведущей к пастбищам Оору-Сая скотопрогонной дороги открывается вид и на заснеженные вершины. Но разве это вершины? Пик Пионер, пик Комсомолец, самые простейшие вершины, единички по альпинистской классификации.
Чуйков мою информацию выслушал терпеливо.
— Вот, видите, Леша, как бывает, — не без подначки заметил он, — всю жизнь пишешь величественные вершины, и вдруг узнаешь, что это всего лишь простейшие единички.
Чуйков любил изображать эти простые единички, как любил изображать все самое земное и обыденное, но из чего состоит мир. Только эти Адыгине, Пионер, Комсомолец выступали у него отдаленным, едва проступающим сквозь жаркое марево любимой с детства Байтикской долины миражом прохлады и высоты, контрапунктом неба над желто-зелеными коврами полей картины «Хлеба созрели»; над пыльной, щебнистой дорогой Чон-Арыка в картине «Шоссе в горах»; над широкой галечниковой поймой Ала-Арчи полотен «У подножья Тянь-Шаня» и «Киргизский хребет». И лишь в «Вечерних лучах» они доминируют, укрупнены во весь рост, и их западные грани, охваченные закатным свечением, вздымаются над затененным среднегорьем языками пламени, только не сказочными, не угрожающими, а таким же соразмерным человеческому масштабу земным чудом, неизбежно перекликаясь с ним, как огонек очага под чабанским котлом, как перекликается белая косынка ледничка на «Комсомольце» с белым платьем едва различимой женской фигурки, хлопочущей возле этого очага.
И какая свежесть, какая прохлада пышет от уже утонувших в сумерках увалов и логов Оору-Сая и Кашка-Суу, как растворяются в этом предвечернем покое едва читаемые очертания двух юрт, как осязаем кизячный дымок, седой прядью поплывший над пастбищем, как узнаваемо и все же будто в первый раз выражено здесь триединство и уже состоявшихся и еще не написанных многих чуйковских картин – вечерние горы, юрта, женщина.
Под этим настроением той давней нашей поездки и был написан мой очерк «Дорога на Кашка-Суу», напечатанный в одном из июльских номеров «Советской Киргизии» за 1964 год. Через год я вновь вернулся к чуйковской теме корреспонденцией об истории картины «В родных краях». А в 1967 году издательство «Кыргызстан» выпустило небольшой сборник моих путевых заметок «Проводник из Чарвака», в который была включена и «Дорога на Кашка-Суу».
И если столь подробно приходится здесь об этом вспоминать, то лишь в поисках объяснения, почему вдруг я получил однажды письмо художника, в котором он предлагал мне написать о нем очерк для запланированной в местном издательстве небольшой книжки, поскольку автор, с которым была договоренность на этот счет, по каким-то причинам обещанное не выполнил. Причем сделать это надо было очень быстро, так как полгода уже потеряно. Поскольку какой-то задел общения с художником и его творчеством у меня уже был, я согласился. И вот все позади, и книжка – на столе, и когда в разгар лета 1976 года Чуйков все-таки смог выбраться из Москвы и мы встретились в его вечно затененной, прохладной мастерской на Южной 97, я, конечно же, перво-наперво ждал его слов о книжке – удалось ли в ней сказать то, ради чего она была затеяна? А он прежде всего спросил, кто занимался обложкой и как все получилось так, как получилось? — Ну, началось! — подумал я, называя фамилии. – Какие молодцы! – неожиданно сказал Чуйков, — я бы никогда не поверил, что это напечатано во Фрунзе. Знать бы раньше, можно было бы и цветных вклеек подбросить, а? Ведь как грамотно, чутко все сделано, не придерешься!
— А это? Я ревниво ткнул пальцем в небрежную компановку обложки. Меня задело, что о самом тексте – ни слова.
— А это… Это мелочи. Конечно, можно было бы и чище сделать, но посмотрите, как все передано, весь колорит, все полутона, все рефлексы, как все работает, ни одного слепого пятна! Просто закрашенных пятен нет. Все живет, вот что главное в любом произведении, когда каждая деталь, каждый мазок звучит и все в унисон!
Удивительно, он говорил о печатной репродукции, как о самостоятельном произведении!
Я поднялся. Заторопился и Семен Афанасьевич.
— Вы меня, Леша, конечно, извините, — он меня по-свойски, по-соседски звал почему-то Лешей, — а вот у вас в тексте не то что слепых пятен нет, у вас вместо них вообще провалы какие-то. Об одном сказано подробно, все замечательно, а о другом, не менее важном, — скороговорка или вообще ничего, как будто ничего и не было. Конечно, как говаривал Козьма Прутков, нельзя объять…
— Семен Афанасьевич, — осознавая, что книжка есть, что дело сделано и авторское самолюбие удовлетворено, а мальчиком для битья, как это бывало в начале нашего знакомства, оставаться уже не хотелось, — я ринулся в контратаку, — вы же прекрасно знаете, как все было, в какой спешке все делалось! И не я тому зачинщик. Я не искусствовед, я по художнику Чуйкову архив не собирал, я не специалист по теории и практике изобразительного искусства. вы попросили, а я не смог Вам отказать. Более того, ведь вы читали мою рукопись, и те замечания, которые вы сделали, я учел, и вас все устроило, а теперь, когда книжка вот она, оказывается, что…
Меня несло. Вот уж не ожидал увидеть себя в роли мелочного скандалиста, но мне это уже нравилось. Меня уже занимал этот неожиданно возникший айтыш, тем более что всерьез такая перепалка была бы просто невозможна. Забавляло и то, что Чуйкову возразить мне было нечего.
— Ну вот, вы и обиделись, — выждав паузу, сказал он. – А я недавно хотел перечитать то место, где вы описываете мое детство, и не нашел. Всю книжку перелистал, все перепутано. Начинаете об одном, тут же перескакиваете на другое, на третье… Я понимаю, современно, ассоциативный монтаж, ретроспекции и прочие киношные штучки, но вот где мне искать мое детство – в Индии, в Риме?
— А вы бы хотели, как? Родился, крестился, трудное детство, отрочество? Да и сами как пишете? Вы свой «Итальянский дневник» давно перечитывали? А я недавно. Так вот, могу напомнить, как вы описываете свою поездку в Тиволи. А накануне вы ездили в Остию, но только потеряли день – гор не видно, а первый план застроен бараками и всякой дребеденью – ваши слова?
На следующий день Вы решили поехать совсем в другую сторону от моря – в Тиволи. Правда, вас обещал отвезти туда на своей машине посольский сотрудник, но вы подумали о том, что незачем отрывать от работы занятого человека, тем более что на этюды все равно придется ездить самому, на автобусе, и надо уж точно выбрать место неподалеку от автобусной остановки.
И вы, Семен Афанасьевич, поехали автобусом, но желанного пейзажа не оказалось и в Тиволи. И тут вы начинаете размышлять о том, что мечты так редко сбываются, а желанный мотив вдруг открывается в последнее мгновенье, из окна автобуса, когда уже ничего нельзя сделать. И так у вас было множество раз, и в других местах, и тут, выдав Италии целую порцию восторженных эпитетов, вы начинаете говорить о том, что никакие красоты, никакие сокровища не могут заменить то, что есть родное. И вы вспоминаете грибоедовское «и дым отечества нам сладок и приятен». Тут вы начинаете размышлять о дыме и, поясняя, что Грибоедов вкладывает в это понятие не буквальный, а широкий смысл, все-таки начинаете рассуждать о дымах конкретных и, в частности, о дыме горящего камыша. Оказывается, это редкий дым, и вы его почти забыли, но теперь вдруг вспомнили. А с ним вместе и что-то далекое, родное. И тут вы начинаете говорить о пыльном уездном городишке, в котором из камыша делали стены, им покрывали крыши домов, им отапливались. А еще в этом городишке отапливались кизяком, и, вспомнив запах кизячьего дыма, вы еще живей начинаете вспоминать родной Пишпек, детство, юность, родные края, словом, Киргизию.
Затем, вспомните, вы перечисляете целый ряд самых противоречивых переживаний, захвативших вас в эти июньские дни. С одной стороны, вы восхищаетесь Италией, ее античным искусством, ее природой, ее людьми, с другой — тоскуете по Киргизии, вообще по Средней Азии. Вы жаждете скорей услышать киргизскую речь, уловить в живую родные запахи – дорожной пыли, полыни, клевера и дынь. С третьей стороны, — продолжал я изумлять собеседника знанием конструкции его собственного прозаического творения, — вы постоянно взволнованы окружением близких примет жизни любимого вами Александра Иванова, мастерскую которого вы разыскиваете. И вот вы уже переключаетесь на Иванова, Вы представляете, как он идет по викколо дель Вантаджо, увешанный своим художническим инвентарем, писать голубые, воздушные дали Кампаньи, нежно-сиреневые силуэты ее далеких гор… И все это – один маленький, однодневный эпизод вашей книги. Ну а каков поп, таков и приход…
Ошарашенный поначалу моим внезапным демаршем, Семен Афанасьевич вдруг заразительно засмеялся и, покачивая головой, вышел в соседнюю комнату, откуда вернулся через несколько минут с небольшим этюдом в простенькой черной рамке, на ходу обтирая пыль рукавом рабочей куртки.
— Вашему приходу, — с добродушной усмешкой и поклоном сказал Семен Афанасьевич, церемонно вручая неожиданный подарок.
— Спасибо.
— Вам спасибо.
Мне было неудобно за свою выходку, и я поспешил домой. Только оставшись один и поставив застекленную картонку прямо перед собой, я внимательно разглядел чуйковский презент, поскольку там, в мастерской художника, мне было не до разглядывания. Это был не этюд к «Вечеру», не злополучная белая лошадка с детьми, чего можно было бы по логике того момента ожидать, ни что-то подобное, а именно пейзаж, причем такой, который я то и дело разглядываю по сей день и не могу найти хотя бы для себя объяснения его тайны.
Блеклый день
Собственно, это был не этюд. Несмотря на этюдный размер, это была законченная, на одном дыхании написанная картина, единая по замыслу, исполнению, по своей особой атмосфере, авторского повтора которой я не видел ни в одной последующей работе художника. Этюд названия не имел, а про себя я назвал его «Блеклый день». Бывают такие дни на переломе лета и осени, но уж определенно – ближе к сентябрю, когда июньские, июльские снега уже сошли и палитра высокогорья представлена лишь рваными клочьями постоянных снежников и ледников в черно-бурой окантовке скал, смягченной светоносным налетом дымки. На небольшой картонке размером 26х34 была изображена срединная, самая высокая часть Киргизского хребта, расположенная в междуречье Аламедина – Ала-Арчи. Причем если на многих картинах Чуйкова горы предстают как эдакий обобщенный «задник» театральных декораций предгорных пейзажей с их зреющими хлебами и галечниковыми протоками речушек, то здесь центральная группа вершин выступает, как замковый камень всего пейзажа, а обязательный мотив многих чуйковских полотен – просторные долинные поля – и вовсе остался за кадром. Нижний обрез этюда совпадает с подножием орто-сайских предгорий, изображенных в виде затененного, круто вздымающегося вала, выступающего надежным фундаментом всего пейзажного построения.
Краски кажутся монотонными, сумрачными, но и в бурной дернине полегших, выгоревших трав звучат охряные рефлексы глинистых проплешин и обрывов, светлые проблески галечника на дне узких промоин и оврагов.
Вторые предгорья написаны обобщенно, единым сиреневым контуром. Возвышаясь над первым валом, они ощутимо отдалены от него воздухом непоказанной, но все же ощущаемой долины. Да и за этим гребнем угадывается провал еще более отдаленной и более высокой долины, из невидимых нам глубин которой и вырастают грани вершин, выше которых можно видеть только распущенные по своду неба белесые пряди облаков. Необычны для пристрастия Чуйкова и выбор времени дня, и само состояние воздуха и освещения, которое накладывает свою едва уловимую зрением вуаль на все составляющие пейзажа, объединяя их при всем их различии в единое целое. Это не излюбленный художником вечер с его меркнущей дымкой и багряным заревом на платках снегов и на гранях скал, не полуденное марево, не утренняя светоносная свежесть, а та предвечерняя, предосенняя пора, когда все устоялось и отстоялось и исходит своим собственным свечением, холодноватым и ясным.
И написано все словно невзначай, походя, без мученического высиживания и трудолюбивой доработки, дошлифовки в мастерской, и не с натуры, а по какому-то наитию, безотчетным экспромтом, не задумываясь ни над одним прикосновением кисти. Да это и не прикосновение, это резкий тычок, от которого острие кисти, набухшее от вобранной с палитры краски, превращается в шпатель, щедро намазывающий масло на загрунтованный картон. И сквозь эту живую пашню рельефно брошенной краски ясно проблескивает линза ледничка в затененных глубинах Кургактор-Сая, а возвышающаяся над ним коническая глыба Кургактор-Баши венчается вместо срезанного навершия горизонтальным мазком своего снежного плато.
Я был на этой горе, я долго вживе разглядывал это вознесенное к небу белоснежное чудо, и мне не понятно, как можно выразить все это одним-единственным, слегка волнистым движением кисти.
Чем внимательней я вглядываюсь в свободную стихию калейдоскопа ничем, кажется, не связанных мазков, тем узнаваемей они складываются в моем восприятии в единственно возможную для меня природную реальность. Я даже становлюсь соучастником этого процесса, и темное пятнышко над ледовой седловиной все отчетливей дорисовывается в пик Байчичикей, который не так просто увидеть и вживе, если разглядывать панораму хребта с южной окраины города, как это, наверное, делал художник.
В левом углу этюда – факсимиле. С. Чуйков. И дата 1965 г. А это время первых наших поездок, бесед, время появления очерка «Дорога на Кашка-Суу». Но и память об этом общении, о возможных разговорах о вершинах междуречья Аламедин – Ала-Арча никак не помогают понять столь явственно возникшую передо мной загадку: каким образом несколько грубых, пастозно наброшенных мазков масляной краски выстраиваются в строгую, возвышенную пирамиду пика Скрябина, из-за белоснежного навершия которого едва-едва выглядывают скалы еще более высокой вершины, которые на этюде может распознать только тот, кто там побывал?
Вот таинство – ничуть не занимаясь кропотливой детализацией, тончайшей лессировкой, пользуясь только обобщенным, грубым мазком (разглядывая его, невольно вспоминаешь возглас семидесятидвухлетнего Матисса: «Наконец я разучился рисовать!») художник добивается воздушности, прозрачности письма, изощренного богатства нюансов и деталей, о существовании которых в реальном мире он даже не подозревает!
Не эту ли ситуацию имел в виду Константин Паустовский, когда писал: «Искусство требует от художника отдачи всего себя без остатка и сожаления. Только в этом случае художник достигает той необъяснимой силы, которую подчас называют колдовством».
Я никогда не говорил с Чуйковым об этом этюде, а он ничего о нем не спрашивал. Но для меня со временем этот безымянный этюд все больше и больше становился своеобразным кодовым ключом ко всему творчеству художника в противовес, возможно, самым известным его полотнам, где свободу восприятия самой живописи начинают «давить» сюжетные или какие-то еще умозрительные наслоения. А еще этот этюд стал для меня эдаким оберегом, легко снимающим наговоры более «продвинутых» в понимании искусства энтузиастов–просветителей, в основе эстетических позиций которых жирно выпирает пресловутый черный квадрат Казимира Малевича.
В черном квадрате Малевича, если уж зашла речь об этой штукарской квадратуре круга вековой давности, я тоже ощущаю присутствие автора, «грубо и зримо». Но мне назойливо предлагается ловить черную кошку в черной комнате, а я лично заниматься этим не буду. Мне хочется на вольный воздух. А вольному – воля.
Чуйков. Джавахарлал Неру. Индира Ганди
В 1962 году киностудия «Киргизфильм» запустила в производство документальный киноочерк «Художник Семен Чуйков». Создание киноленты было приурочено к шестидесятилетию живописца, в чем режиссер Изя Герштейн увидел весомый повод рассказать не только о знаменитом земляке, но и о признанном основоположнике киргизского изобразительного искусства.
За плечами тридцатидевятилетнего кинематографиста Изи Абрамовича Герштейна были сотни киножурналов и спецвыпусков образца «Плотина в горах», «Киргизстан поет» или «У монгольских друзей». И, видимо, не случайно, подбирая себе оператора, многоопытный кинодокументалист отдал предпочтение не профессионалу с его амбициями и неизбежным набором апробированных клише, а ассистенту оператора, вчерашнему школьнику с его свежим взглядом на самые затертые от повседневного употребления понятия. Что же касается нехватки профессионального опыта у Кости Орозалиева, то Герштейн, сам будучи оператором, мог в случае чего подстраховать дебютанта. И студия, утверждая группу, сочла эти доводы убедительными.
Говорить о равноправном партнерстве столь разных людей, наверное, было бы несерьезно, если бы не масштаб явления по имени Чуйков, перед которым и опытный профессионал, и начинающий оператор в равной степени были дебютантами.
Конечно, Костя с детства был наслышан о знаменитом соседе, живом лауреате Сталинской и Джавахарлала Неру премий, мастерская которого, куда художник каждое лето приезжал из самой Москвы, действительно, была рядом, на улице Южной, в квартале от улицы Боконбаева, где жил Костя. Нельзя было не знать и картины Чуйкова, особенно такие известные, как «Дочь Советской Киргизии» или «Вечер в горах», которые активно репродуцировались во всех печатных изданиях, подкрепляя расхожие фразы из искусствоведческих статей об интернациональном подвиге русского художника, посвятившего свой талант жизни киргизского народа. Однако познание Чуйкова в процессе работы над фильмом не оставило места для домыслов об официальном ангажировании и об оглядке живописца на политическую коньюнктуру.
В Чуйкове поражало все. От маски простолюдина, под которой он скрывал от бесцеремонных глаз свои сокровенные чувства, до грубоватых мужицких острот, от полнейшего отсутствия какой-либо профессиональной бутафории до вдруг прозвучавших из его уст стихов Максимилиана Волошина или Микеланджело Буонарроти. А его мастерская! Эти две почти пустые и почему-то всегда холодные даже в июльский зной комнаты, согревавшиеся разве что закатным светом тихой улыбки Евгении Алексеевны, словно извиняющейся за эти пыльные подоконники, заваленные тюбиками из-под краски и обломками древней керамики, подобранными на средневековых городищах, за эту скудную обстановку, состоящую из двух железных кроватей, застеленных суконными одеялами, да за колченогий стол с обязательным чайником и разнокалиберными стаканами и чашками. Но все объясняют занимающий центральное место в комнате мольберт всегда с приготовленным холстом на подрамнике и бесчисленные этюды и эскизы, расставленные по полу вдоль стен и опять-таки огромный, полутораметровый хум – древний сосуд для хранения зерна, подаренный кем-то чете художников во время их поездок по Чуйской долине. И, наверное, без этой аскезы мастерской с ее характерным, но ненавязчивым запахом краски было бы невозможно войти в мир тончайших градаций окружающего мира, свойственных этому человеку, его непримиримой отстраненности от всего того, что назойливо выдвигается на авансцену всеобщего внимания и восхищения. Он словно умышленно избегает всех так называемых достопримечательных мест и, даже приезжая на Иссык-Куль, никогда не писал озера, а забирался на своем газике в верховья какого-нибудь неприметного ущелья, подальше от курортного ажиотажа, и только там доставал свой походный этюдничек, невольно вторя увлеченности юного Чуйкова кавказскими стихами Михаила Лермонтова, мотивами горных кочевий, появившихся в самых первых чуйковских этюдах.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней.
И этим предельно простым мотивам художник остался верен на протяжении всей жизни, даже когда писал не Киргизию, а полуденную Индию, экзотическую страну Востока для кого угодно, только не для Чуйкова. Такой подход мастера явил для молодого оператора открытие не только самого Чуйкова, не только истинной красоты киргизской земли, но и настоящей живописи, изначальных законов творчества вообще, в том числе и кинематографа.
Вот это возникшее тогда понимание молодой оператор и постарался высказать создаваемым им изображением, будь то осмысленное репродуцированное широко, но поверхностно известных картин или снятые вживе эпизоды на уборке хлебов в Байтикской долине, или утоление жажды художником – пригоршней из любимого им горного ручья Кашка-Суу. И фильм получился не только благодаря самобытной натуре живописца, но еще и потому, что многоопытный документалист Герштейн обладал способностью чутко улавливать не только то новое, что происходило в кинематографе, но и все мало-мальски ценное в предложениях своих коллег и конструктивно их развивать на пользу общему делу.
Во всяком случае, фильм понравился Чуйкову, что при известной требовательности академика живописи само по себе было немалым достижением. Однажды, уже после премьеры, благодарный художник достал с полки только что изданный в Москве альбом, посвященный его творчеству, и на форзаце крупно вывел свой обычный автограф: «Милому и талантливому человеку – Изе Герштейну».
— Семен Афанасьевич, — не утерпел Герштейн, — вы мне уже дарили альбом с такой надписью…
— Да? – удивился художник. – Ну извините великодушно. – Тем же фломастером он, не раздумывая, вычеркнул «Изе Герштейну», а сверху надписал: «Косте Орозалиеву».
Костя возражать не стал. Он прекрасно понимал, что у Чуйкова все были «милые и талантливые», пока при ближайшем рассмотрении многие оказывались ни теми ни другими. Для Кости же киноочерк «Художник Семен Чуйков» стал одним из существеннейших факторов, способствовавших осуществлению давней мечты – поступлению на операторский факультет ВГИКа.
Общение с Чуйковым, хотя бы и мысленное, для оператора Константина Орозалиева на этом не кончилось. И документальная короткометражка «Художник Семен Чуйков», снятая юным ассистентом оператора, но тем не менее настроенная на эстетику и нравственность киргизских, а затем и индийских полотен замечательного живописца и уроженца земли Ала-Тоо, через четверть века обернулась философскими и гуманистическими высотами фильмов «Джавахарлал Неру» и «Индира Ганди». Не будет большой натяжкой сказать, что именно под воздействием творчества Чуйкова Костя стал первым советским оператором, который смог увидеть Индию без заклинателей змей и йогов, без погонщиков слонов и Тадж-Махала. Не зря он, оказывается, работал когда-то в группе, снимавшей фильм о Семене Чуйкове, слышал его рассказы, трясся в чуйковском газике по бездорожью киргизских взгорий, дышал воздухом картин индийской серии, таких, как «Песня кули», «На набережной Бомбея вечером», «Гималаи». Не поэтому ли он, сам не думая об этом, невольно настроился на чуйковскую волну восприятия этой полуденной страны, под небом которой смог увидеть не слащавые миражи, так сказать, индийской экзотики, а ту Азию, тот Восток, где родился и вырос сам. В такой стилистике он и работал. И был рад, что такое видение Индии получило поддержку как советских, так и индийских режиссеров. И фильм получился, он был отмечен Государственной премией СССР. И, словом, все то, что создавал своим творчеством Семен Афанасьевич, продолжает работать, а его книга «Образы Индии» вполне может служить своеобразным «мастер-классом» не только для художников, не утративших вкуса к этюдной работе, но и для кинооператоров, для журналистов и писателей, старающихся понять неведомую им страну.
Мастерская на Южной
Однажды вечером, а вечер был осенний, с дождем, ветром, с тревожным стуком в окно мятущихся мокрых ветвей, вдруг – телефонный звонок. Беру трубку – Чуйков. Голос, как всегда, добродушно-ворчливый, но и неловко-виноватый, дескать, обеспокоил по пустяку в такое время.
— Вы извините великодушно, у вас есть свет? Есть? Ну вот видите, а у нас нет. Так я и знал, опять столб ерундит, то контачит, то не контачит, цивилизованный стал, однако!
Слово «цивилизация» он произносил иронически, с подковыркой. У него свои счеты с этим расхожим понятием, за которым так часто стоит культ потребления с его автомобильным бумом и жевательной резинкой, звукоизрыгающей техникой и тем обезличенным человеческим стереотипом, в котором все заемно, все унифицировано – от «крика» в одежде до крика в суждениях, и в котором так мало истинно человеческого и своего. С такой же иронической издевкой относился Семен Афанасьевич и к слову «культурный», за которым ему всегда виделся современный нувориш от культуры, «белый воротничок» с его снобизмом, чванливым высокомерием к земле и людям, на которой и среди которых он рожден.
— Вы что-нибудь понимаете в электричестве? А то вот мы сидим с Евгенией Алексеевной…
Это уже крик о помощи. У меня были гости – человек пять товарищей–альпинистов; мы выскочили на улицу. Тогда она называлась Южной, теперь – Чуйкова, и мастерская Семена Афанасьевича была рядом, через три дома. И когда он в наброшенном на плечи стареньком плаще показался в темном проеме калитки, кто-то уже сидел на столбе и под многоголосый хор рекомендаций и указаний набрасывал обломком ветки на нужную фазу отсоединившийся проводок.
В окнах за приземистым кирпичным забором, за высокими зарослями полуоблетевших кустов сирени вспыхнул свет. Я, конечно, знал о доступности, гостеприимстве Чуйковых, столь, впрочем, традиционном в наших краях, но все же не думал, что он тут же пригласит мою шумную и довольно-таки бесцеремонную компанию в свой дом, в свою мастерскую, в которой при всей ее аскетичности и рабочей непрезентабельности почему-то хотелось ходить осторожно и говорить чуть ли не шепотом. Но он пригласил. А парней долго уговаривать было не надо, все тут же ввалились в калитку, в дом – еще бы, такая возможность побывать в таинственном, с вечно плотно задернутыми шторами особняке настоящего, знаменитого художника, которому когда-то сама Индира Ганди вручала премию Джавахарлала Неру…
Не знаю, что рассчитывали увидеть в мастерской Чуйкова мои мужественные друзья–горовосходители, но я изрядно потешался, увидев их обескураженно-вытянутые физиономии. Да и в самом деле, холодные и почти пустые комнаты, голые стены, голые лампочки под высокими потолками, расшатанные стулья у такого же расшатанного, застеленного клеенкой кухонного стола… Впрочем, их явно озадачили и те этюды, которые, расставляя прямо на полу, вдоль стены, стал им показывать Семен Афанасьевич, — небольшие пейзажи его любимых предгорий, столь неприметно-будничных и просто никаких для этой особой публики, избалованной зрелищем самых величественных вершин Тянь-Шаня и Памира.
— Семен Афанасьевич, вы, конечно, извините, может, я чего не понимаю в живописи…
— Да, да, пожалуйста… Так все говорят. А потом начинается…
— Вы видели водопад в Теке-Торе? Очень красивое место. А скалу «Разбитое сердце» в Джеты-Огузе? А Иссык-Куль? Да он по красоте на втором месте в мире, после озера Тити-Кака…
— Да погоди, при чем тут Тити-Кака! Семен Афанасьевич, вы были когда-нибудь на вершинах? Вам надо обязательно сходить с нами на восхождение, там, знаете, какие краски! Вы таких красок, наверное, никогда не видели. У вас на картинах они, извините, какие-то блеклые, ну как в жизни, а там они яркие, как у Рериха. Вот Рерих писал, так писал. Вам надо непременно показать слайды. Вы тогда все поймете!
Я замер. Только слайдов теперь и не хватало. Рерих – ладно, за долгую жизнь в искусстве Семен Афанасьевич приобрел немалый опыт в этике отношений к тем художникам, творческих концепций которых он не разделял, но призывы к слайдам могут кончиться неизвестно чем. Но тут вошла Евгения Алексеевна, появился чай в разнокалиберных чашках и пиалах, появились какие-то конфетки, какое-то печеньице, а наш настырный пропагандист слайдов куда-то исчез. Никак я не думал, что он вновь возникнет, да еще так быстро обернется. Но он вернулся. С аппаратом, слайдами и даже небольшим экраном.
Тут же началась демонстрация красивых гор. Жгуче-синего неба. Ослепительно-белых вершин. Каких-то космических рассветов и закатов, таких несозвучных скупой на краски земле, которую человек пашет и на которой живет.
— Усекли, Семен Афанасьевич?
— Усек, усек, — добродушно кивал головой Семен Афанасьевич, и это «усек», «усек» вновь позабавило меня и ничуть не меньше, чем вытянутые физиономии моих приятелей, впервые увидевших рабочие апартаменты академика и лауреата… Да, сколько раз и кто только не разъяснял художнику, что и как он должен писать, что, наконец-таки, он должен «усечь», и куда двигаться.
— Усек, усек, — отшучивался Семен Афанасьевич. Да и что говорить, если все, что он хотел сказать, сказано его картинами.
Рерих? При чем тут Рерих? У Николая Рериха своя Вселенная. У Семена Чуйкова – своя. Возвышенное и эпическое, боренья духа и разума, великие таинства красоты и вечности он видит не в мистериях заоблачных небожителей, не в явлениях вещих знаков и сказочно-мистических пророчеств, а в таких изначальных для него образах, как хлеб и поле, как вода и камень, как небо и горы, как дети и старики, как женщина и мужчина, как самая земная и потому прекрасная жизнь человека, жизнь на земле.
Дом на Верхней Масловке
В Москве Чуйковы жили на Верхней Масловке. В громоздком здании с необычно большими квадратными окнами, за которыми таятся мастерские художников. На закате, когда окружающие кварталы погружаются в дымный сумрак, оранжевый утес худфондовского дома все еще обагрен солнцем, и это напоминает горы. И тогда становилось непонятным, почему он, Чуйков, все еще здесь, в Москве, хотя там, в Киргизии, на улице Южной, где расположена его летняя мастерская, за потемневшим от времени кирпичным забором давно расцвела, а то уже и отцветает белая сирень.
Каждый год он старался поспеть во Фрунзе к цветению сирени. И почти каждый год опаздывал. Всю жизнь стремился одерживать верх над всякого рода обстоятельствами, и как часто обстоятельства оказывались сильнее, при всяком удобном случае отнимая лучшие, предназначенные для живописи часы. Время ускользало песком сквозь пальцы, он ощущал это физически, эта бесконечная дуэль изнуряла, как тяжкий, лишенный смысла труд. Он взрывался, клокотал, как распаленный чайник, но тут же спохватывался, остывал, стараясь смягчить минутную несдержанность, чем бы она ни была вызвана.
«Лексевна», наоборот, молча переживала такие минуты, про себя. Погрузневшая и усталая, она неслышно появлялась в дверях и, что бы ни было на душе, всегда, улыбалась гостю. Этой улыбкой ее доброе, широкое лицо было освещено, как закатным солнцем. И становилась понятной юношески восторженная строка из чуйковского посвящения к повести «Вершинная быль» о «солнцевеющей девушке Жене». Становилось понятно, почему он писал именно так, а не иначе, и почему иначе он просто не мог бы тогда написать. Да и спустя многие годы… Помню, легкий соломенный хохолок над открытым лбом. Тяжелые бусы из подобранного когда-то на черноморском берегу сердолика. Массивный серебряный браслет на запястье, подчеркнуто простой и грубый. А за всем этим – стряпня, посуда в раковине, пожизненная забота о давно взрослых и вроде бы совсем самостоятельных сыновьях. А затем и о внуках, о сыновьях своих сыновей, один из которых жил рядом, подавал голос из соседней комнаты, а к другому, если что, нужно было срываться, ехать через всю Москву… И живопись, которой она была предана ничуть не меньше мужа, ничуть не меньше переживая каждый потерянный для работы день.
В одной из поездок на Кашка-Суу я видел, как она собирала себе в Москву букет. Дело было осенью, цветов никаких, конечно, не было, но по краям проселка вставали непроходимые заросли высохшего за долгое лето татарника. Ломать их могучие стебли было непросто, а для рук и небезопасно, но колючие головы стоили этого. Евгения Алексеевна слова не обронила о том, как прекрасны в своей дикой красоте эти вековечные обитатели пустырей, никого не хотела увлечь своим занятием. Наверное, подразумевалось, что это и без слов понятно всем, а кто этого не понимает без слов, то это тем более не объяснить ему на словах. Потом этих дикарей я узнавал на ее пейзажах «Чертополох», «Пейзаж с татарником». Вслед за Ван-Гогом многие художники давно начали писать подсолнухи, несколько пейзажей с подсолнухами написала и Евгения Алексеевна. Царский цветок — подсолнух. Образ лета. Один пейзаж у Евгении Алексеевны так и называется – «Лето», где подсолнух, величественный, как генерал, на первом плане, а стога свежей соломы и людские фигурки – поодаль.
А к татарнику – приглядеться надо. Опять же, нет от него никакой пользы человеку. Как и скотине.
Однажды я проговорился, что когда-то оканчивал горно-геологический факультет и даже работал на Памире в партии по поиску горного хрусталя. В ответ Евгения Алексеевна продемонстрировала мне свои сокровища, привезенные из Индии. Небольшая деревянная коробка была доверху заполнена морской и речной галькой. Многие окатыши были в известняковой, глинистой, охряной «рубашке», но где накипь отслаивалась и обнажался чистый бочок, – там блестела благородная шпинель, завораживали своими сферами агаты, ярко пылали неправдоподобно чистой чернотой морионы и турмалины.
Мне кажется, что та густая тень, которую отбрасывала в искусстве, да и просто за домашним столом такая могучая личность, как Семен Афанасьевич Чуйков, Евгению Алексеевну несколько тяготила. Я почувствовал это на одном из вечерних чаепитий, когда у Чуйковых были их старые друзья – его давний биограф Дмитрий Владимирович Сарабьянов с женой. Чуйков был в ударе, он увлеченно рассказывал о заседании МОСХА, посвященном работе с молодежью в свете последних указаний партии и правительства, которое чуть было не сорвал президент Академии художеств СССР Сергей Васильевич Герасимов, тончайший живописец, душевный, остроумный человек. Выступая с высокой трибуны перед уважаемым синклитом, он сказал: «Товарищи, не надо огально охуивать молодежь…». Когда взрывы хохота поутихли, он внимательно посмотрел в зал, откашлялся, извинился за оговорку и сказал: «Я повторяю, не надо огально охуивать молодежь».
Наверное, все правление МОСХА хохотало не громче, чем один Семен Афанасьевич, а Евгения Алексеевна укоризненно урезонивала: «Сень, ну ладно. Ну, нельзя же так, Сень!»
Говорят, супруги со временем становятся в чем-то похожими друг на друга. Супруги – может быть. Но не художники. И потому только на картине Малеиной есть такая стерня, пыльная, жаркая, по которой течет серая накипь отары с потерявшейся в пространствах фигуркой чабана. Стерня выгнута венчающим землю куполом, а блеклое небо, высушенные косы облаков своим движением лишь подчеркивают высоту и крутизну земли, на которой трудится человек, ничуть не похожий на те раскрашенные условные знаки, коими его подчас обозначают. И краски ее, краски художницы Евгении Малеиной, ничуть не походят на те масляные краски, на то масло, которым в общем-то пишутся живописные полотна. Ее краски напоминают прах перекаленной степной земли, пыльную кору деревьев, обветренную щеку киргизской девочки, прижавшейся к дверному косяку… Нет, все это близко, родственно духу и чуйковских картин, и все же художница Евгения Малеина ничуть не повторяет художника Семена Чуйкова, а сам Семен Афанасьевич считал жену куда большим колористом, нежели он сам.
А когда подрос Иван, когда появились очень свежо написанные московские дворики, а вслед за ними – совершенно неожиданные эксперименты в области формы и цвета, в дом вошел еще один художник, тоже ни на кого не похожий, потому что опыт родителей все же оставался прежде всего их опытом, а сын хотел познать свои открытия и разочарования, какою бы дорогой ценой они ни дались.
А потом та же проблема встала и перед младшим Чуйковым – Василием. И опять-таки – перед родителями. Как, избегая невольного давления, помочь сыну найти свою дорогу? Если только это действительно возможно – помочь стать художником. Ведь речь идет не о том, чтобы постичь ремесло изображения натуры – тут все благополучно, вплоть до профессионального, у лучших педагогов, образования, и проблемы «как сказать» не должно, по всей видимости, существовать. «Что сказать» — вот художническая доминанта, с какого бы боку к этому извечному спору ни подходить. И тут никто не указ, не судья и не помощник, никто, кроме самой жизни.
Впрочем, на столь высокие темы в доме Чуйковых говорили куда реже, чем можно было бы ожидать. Да и сама московская квартира Чуйковых не сразу указывала непосвященному человеку на профессиональную принадлежность хозяев, а то и не говорила совсем. Никаких картин в роскошных багетах, ни антиквариата редкостного, ни мебели старинной, а та, что есть, – куплена давно, по случаю и может засвидетельствовать лишь то обстоятельство, что в этом доме обо всех этих вещах много думать не принято.
Правда, есть какая-то древняя на вид икона. Есть небольшая акварель с кактусами, подаренная Ренато Гуттузо. Есть не менее драгоценная реликвия – потертая, испачканная краской кепчонка знаменитого итальянца, забытая владельцем на вешалке в чуйковской прихожей. Есть несколько шкафов книг по искусству, а в одном из них – полка книг, написанных Чуйковым и написанных о Чуйкове. Есть на полу в одной из комнат киргизский ширдак. Есть крохотный футляр из арчи, а в нем – темир-комуз. И когда этот диковинный для Москвы музыкальный инструмент попадается на глаза, когда есть минута времени и хочется хоть издали прикоснуться к Киргизии, Чуйков подносит к зубам кованую пластинку черного железа, и срывающаяся из-под пальцев капель вибрирующих, печальных звуков враз обращает стены московской гостиной в своды юрты, а неумолчный шум Москвы – в гул горной реки.
И еще есть керамика. В шкафах, на полках, на подоконниках и на стенах – всюду, где только можно приткнуть. И, разумеется, в мастерской Евгении Алексеевны. Тут уж ее невпроворот. Даже теснит картины. Но обилие не удручает, ничего подобного вы в магазинах не увидите. Это свое. Свое не только потому, что сама делала, а еще потому, что никогда этим не занималась, не училась, а потом взялась. Сама. И никаких наставников. Никаких оглядок на то, что скажут критики или керамисты-профессионалы. Она ведь не куда-нибудь – для себя. Она ведь не претендует на что-либо – просто нравится. Шамот. Муфельная печь. Самая малость солей железа, самый скупой мазок глазури, чтобы всего лишь проявить, дать зазвучать природной фактуре глины, обоженной в печи. И… непосредственность ребенка, впервые завладевшего коробкой цветных карандашей. Его неумелость, неуклюжесть, его бесхитростная вера в то, что мир прекрасен. И еще – обостренное зрение, профессиональная интуиция художника, прожившего в искусстве целую жизнь. Декоративные ложки.
Декоративные блюда и тарелки. Кружки. Кувшины и амфоры. С рыбами на боках, с мордами каких-то чудищ на венчиках и ручках. Чуть ли не скифский, звериный стиль. Чуть ли не палеолит, с его прекрасной естественностью материала и столь же прекрасной естественностью каждой линии, каждой формы.
И самое неожиданное – обратная связь. Любительство Лексевны, если только можно назвать любительством ее керамику, вдруг оказывается тем кодом, с помощью которого легче понять язык живописи заслуженного художника Российской Федерации – Евгении Малеиной.
Понять и восхититься им.
«Лексевной» звал Евгению Алексеевну Семен Афанасьевич. Иногда. В благодушные минуты хорошего настроения, в кругу знакомых, зашедших к Чуйковым в единственно приемлемое для художников время – после захода солнца. Он вообще любил вдруг перейти на эдакое дурашливое, шаржированное просторечье, обернуться эдаким разбитным семиреченским мужичком, особенно в тех случаях, когда зайдет речь о важных, сокровенных вещах, о которых трудно говорить, не обнажая души. Тут он сразу прятался, уходил в панцирь «етого самого», не то солдатского, не то деревенского юморка, не очень изысканного, но уж колоритного и наваристого, как тройная уха. А главное – надежно прячущего под грубоватой рогожкой ту нежность, ранимость, которая доверчиво обнажена в чуйковских полотнах и высказать которую иным образом художник не считает возможным.
— Ета-а-а… Генерал с денщиком на пляж отправился… Смотрит – дамочка загорает, авантажная такая, пышная, вся из себя. Генерал и говорит, ну-ка Иван, давай на рекогносцировку, насчет чайку, насчет чего другого, третьего… Пошел Иван. Возвращается. – Вашскородие, — докладывает денщик, — насчет чайку они согласны. А насчет чего другого — третьего–никак нет-с. Они поп-с.
Ему без труда удавался этот прием, эта мимикрия, благо жизненных наблюдений для такого камуфляжа занимать не приходится. Остальное – дело техники, а «с ею, проклятою» дело и вовсе просто обстоит. Как-никак – опыт! Драмкружок в семинарии! Театр Дома Красной Армии в городе Верном! Да и сам он внешне ничуть не был похож на «настоящего» художника, ни лицом, ни манерами – ничем не вышел. Он однажды попробовал воспользоваться своими титулами. Заставил себя. Так пришлось, не ночевать же было на улице!
В Джамбуле они оказались проездом, возвращаясь из утомительной поездки в Талас, а знакомых в этом городе не было. Дежурная гостиницы смерила его изобличительным взглядом, подчеркнув им, словно красным карандашом, и простецкое, мужиковатое лицо, приличествующее разве что какому-нибудь безымянному мастеру из железнодорожного депо, и потемневшую от пота и пыли соломенную шляпу, и выгоревшую ковбойку, и китайские хлопчатобумажные штаны «Дружба», вконец утратившие от жизненных испытаний первоначальный вид, и с саркастической улыбкой произнесла:
— Оно и видно, что «академик»!
— Видел я вашего Чуйкова, — выговаривал мне один знакомый, вспомнив попавшийся ему на глаза мой давний очерк о Семене Афанасьевиче, — был я у него однажды, имел счастье. Узнал, что он приехал, и решился. С товарищем пошли. Мы только что художественное училище окончили. Очень хотелось напутственное слово услышать. С большим живописцем познакомиться…
— И познакомились?
— Вполне. Позвонили – какой-то мужичок калитку открывает. В затрапезной рубашечке. В каких-то вытертых рабочих портках…
— Ага, бороды не было, кожаного пиджачка…
— Да не в этом дело! За весь вечер – ни слова об искусстве, о живописи! Какой-то солдатский анекдот рассказал. О какой-то позапрошлогодней рыбалке вспомнил… Начал жаловаться, что шофера для своего газика найти не может… Что соседи валят мусор через забор…
А ведь обмануться можно не только обыденностью в облике художника. Не так ли подчас обманываются и кажущейся простотой чуйковских картин?
Джамбул Джумабаев: школа для одаренных
Об этом разочаровании, которое осталось у тех молодых художников от встречи с академиком живописи, я рассказал как-то их сверстнику – Джамбулу Джумабаеву.
Джамбул рассмеялся:
— Да, наверное, все так и было. Они ведь шли к Чуйкову с готовым стереотипом, который заочно сложился у них из всего того, что им приходилось слышать и читать. И вдруг этот вульгарный стереотип лопнул. Вы понимаете? Такой был монументальный, поучительный и вдохновляющий во всех отношениях образ мудрого наставника, который вот тут же, едва взглянув в их лица, откроет им не только калитку, но и все тайны божественных откровений. И вдруг такая проза!
— Мне повезло больше, — охотно перекинулся на свои впечатления о Чуйкове всегда неожиданный в своих словах и поступках Джамбул.
Когда-то, отринув от себя рутину художественного института имени Сурикова и вернувшись в Киргизию, он, непризнанный молодой гений, только-только закончил портрет жены и мастерил раму для картины. И тут в подсобку Дома художников, где он отвоевал себе выгородку, служившую ему мастерской, входит Чуйков, а с ним целая свита тогдашних руководителей творческого союза, все местные классики. Ну никак не ожидал Джамбул увидеть здесь, на задворках, таких важных гостей.
В те годы, в конце шестидесятых, еще сохранялся хороший обычай, почему-то иссякший с началом демократических преобразований, — День открытых дверей. Впрочем, этот день длился целую неделю, и все эти дни любой человек мог запросто зайти в мастерскую любого художника, вплоть до живого корифея и пообщаться с ним на темы высоких искусств и ознакомиться не только с его новыми работами, но и, как водится, с его творческими планами.
Джамбул еще пацаненком — вот удивительно — на равных заходил в День открытых дверей к самому Чуйкову в его мастерскую на улице Южной, но, конечно, ничего, кроме чаепития с конфетами в саду за мастерской, в памяти не осталось. Там стоял деревянный столик, то ли круглый, то ли квадратный, да уже и не вспомнить… К сожалению.
И вдруг – Чуйков. У него, Джамбула, в так называемой мастерской. Он, Джамбул, конечно, знал, что Чуйков приехал, но никак не ожидал, что мэтр зайдет и к нему, да еще и не один. А Чуйков внимательно рассмотрел портрет, сказал просто: «Портрет хороший». Затем забрал у Джамбула раму, сколоченную из стандартного, купленного в художественном салоне багета с дешевенькой, под бронзу, лепниной, взял кисть, обмакнул ее в черную краску и тщательно прошелся по фаске внутреннего периметра. Джамбул слышал, конечно, что Чуйков уделяет большое внимание обрамлению, подаче картин, и даже тому месту в экспозиции выставки, на какой стене она висит, какие картины находятся по соседству. Но получить такой наглядный мастер-класс никак, разумеется, не рассчитывал. А картина сразу преобразилась, сразу приобрела необходимую отстраненность от окружающей суеты, какую-то дополнительную значимость и глубину.
А уже на следующий день гроза и надежда всех начинающах и безвестных художников – ГЭК, то есть Государственная экспертная комиссия – купила у Джамбула эту картину за 500 рублей, и с тех пор она вошла в постоянную экспозицию Музея изобразительных искусств.
В те времена 500 рублей – это были деньги, но и не в деньгах было дело. С тех пор Джамбула стали замечать, а то ведь в упор не видели. Еще бы! Кто художественное училище с отличием окончил, кто Академию художеств, а Джумабаев только до третьего курса Суриковского института дотянул, и все.
А он и не хотел «дотягивать». Он сразу оставил институт, когда понял, что знаменитая кузница художнических кадров ничего дать ему не может, кроме того, что смогла уже дать на первых порах.
Но еще больше зауважал Джамбул маститого художника после того, как на одной из выставок, обходя, опять же в сопровождении всякий раз возникающей вокруг «московского» светила свиты, обширную экспозицию киргизских художников, Чуйков остановился возле небольшого полотна Джумабаева под названием «На учебу» и вдруг воскликнул:
— Ух ты, Джамбульчик, как серый взял, а!
И все сгрудились тут же возле этой картины, как-будто никогда ее не видели. Да и что там было такого необычного, чтобы смотреть? Угол какой-то глинобитной мазанки, старуха с девочкой, глядящие на то, как у коновязи старик готовит к поездке белую лошадь. А в центре этой нехитрой композиции – мальчишка с курджуном через плечо. Все это происходит на фоне охряно-серых, пыльных предгорий, какие бывают только осенью, да еще в какое-то невысказанно серое время суток и погоды, когда непонятно, что это – ненастное утро или ранние сумерки, и потому было еще более непонятно, как их выразить, зачем и для кого?
А ведь для него, Джамбула Джумабаева, серый цвет никогда не был цветом безликости и невыразительности, для него это был цвет осенней степи, выветрелой глины старого дувала, столетней коры шелковицы, цвет потемневшего от времени серебра, потускневшего перламутра и выцветшей парчи, для него это были лучшие фрагменты живописных полотен Веласкеса, Вишнякова, Уистлера, Гейнсборо… Но первым человеком, который произнес: «Ах, Джамбульчик, как ты тут серый взял, а?», был Семен Афанасьевич, и никто другой, ни друзья – молодые художники, ни местные знаменитости тех лет, ни начитанные искусствоведы, умеющие впопад процитировать, что сказал бы то тому или иному поводу Вазари, Ларошфуко или Леон Батиста Альберти, а вот этот старик в клетчатой рубашке с внешностью семиреченского мужика, и это вышло у него так поразительно просто!
Вот когда Джамбул понял, что они – одной крови, они живописцы, а живописцем дано быть не каждому художнику, как не каждому живописцу дано быть художником в общепринятом значении этого слова. Парадокс? Нисколько! И когда кто-то из молодых да резвых пренебрежительно усмехается по поводу сюжетных построений тех редких картин Чуйкова, где живописцу не удалось дистанцироваться от диктата общественно-политической среды, Джамбул в свою очередь сожалеюще улыбается, но теперь уже в адрес этих непримиримых борцов с коньюнктурой – ведь они-то, в силу своей творческой несостоятельности и есть мальчики на побегушках у конъюнктуры, в какие «продвинутые», эпатирующие одежды они бы не рядились.
Джамбул и сам был не чужд эпатажу. И однажды в Союзе художников при обсуждении годовой выставки его вдруг прорвало, и он совсем в духе азартных и не признающих никаких авторитетов яростных споров на творческой базе на озере Сенеж вдруг обрушился на «касту неприкасаемых», то есть на так называемых ведущих мастеров кисти, в адрес которых местные искусствоведы позволяли себе лишь почтительное поглаживание по шерстке, но уж никак не против. А он чего только не городил! И очень кстати была рассказанная как-то отцовская байка о большой чалме! Отец когда-то учился в знаменитой андижанской медресе, и как лучший ученик посылался в Бухару или Самарканд на ежегодно проводившиеся там состязания лучших чтецов Корана. Отец читал суры так, что многие люди плакали, и он нередко оказывался лучшим. Служка с разносом обходил слушателей, те бросили на него монеты, а потом опрокидывал разнос на чалму победителя. Что падало с чалмы – шло в пользу бедных и убогих. Что застревало – доставалось владельцу чалмы. И многие участники этих состязаний проявляли мастерство прежде всего в искусстве накручивания чалмы невероятной ширины и обилия складок. Не то ли происходит и в среде деятелей культуры, и особенно в «высших ее эшелонах»?
Чуйков, конечно, сразу понял, в чей огород камешек, уж у него-то чалма получилась дай бог каждому, хоть он ее специально и не накручивал. Как он тогда заразительно смеялся, приглашающе поглядывая на местных экзархов, как вытирал слезы, как примирительно взмахивал платком, дескать, ну хватит, ну потешил, а потом вдруг появился на третьем этаже кафе «Сон-Куль», где Джамбул и прочие молодые за кружкой пива продолжали витийствовать на вечные не только для художников вопросы образца «ты за кого?», «За третий интернационал или за второй?», «За красных или за белых?», «За Малевича или за Шишкина?» Подошел, подсел, ничуть не тяготясь дистанцией возраста и положения. О чем тогда говорили, уже и не вспомнить, да и не в этом дело. Но Джамбул уже тогда заметил, и не только в общении с Чуйковым, что истинно значительный, истинно талантливый человек меньше всего зацикливается на том, каких направлений в искусстве, каких границ придерживается его собеседник; единственной шкалой измерения почитая меру таланта, причем в такой крупной градации, как «да» или «нет».
И сегодня, достигнув своего жизненного перевала, Джамбул искренне сожалеет, что лишь в самой малости воспользовался теми знаками, которые давала ему судьба, приглашая к общению со столь значительной личностью. Скорее всего, это произошло по той простой причине, что он с малых лет всегда был сам по себе, и не привык пристраиваться кому-то в кильватер. И потом ему всегда казалось, что все только начинается, что у него еще будет много встреч, много возможностей по-настоящему поговорить, пообщаться с этим старшим товарищем, с которым, если разобраться, было столько созвучно общего по судьбе и творчеству, несмотря на всю разделяющую их дистанцию прожитого и достигнутого.
Тут и детство в жарких предгорьях, в захолустье маленького провинциального городка, известного разве что средневековым минаретом Узгенского городища да полуразвалившимися мавзолеями эпохи Караханидов.
И непонятно откуда возникшая страсть к рисованию, желание стать художником, хотя ни в близком, ни в дальнем окружении их семей художников не было, да и просто не могло быть. Как глубоко верующий мусульманин, отец, конечно, поначалу хотел, чтобы сын получил образование в медресе. Но в то же время, будучи почитателем и знатоком поэзии Руми, он уважительно относился к увлечению сына, и не препятствовал его решению ехать после седьмого класса поступать во Фрунзенское художественное училище. Но во Фрунзе Джамбул узнал, что в Москве при Суриковском художественном институте есть художественная школа для одаренных детей. Для одаренных? О, это как раз для него.
И Джамбул, опять-таки самостоятельно, едет в Москву, имея вместо обязательного в те годы направления «от республики», потертый чемодан, набитый рисунками маленького художника. Эти рисунки и сыграли роль официального направления. Вундеркинд из древнего Узгена был принят в школу, а еще одной школой стала расположенная по-соседству Третьяковская галерея, бабушки-смотрительницы которой без всяких билетов и вне запланированных экскурсий пускали пацанят из Суриковской школы в заветные залы, где можно было хоть каждый день общаться без посредников с самим Суриковым, с Репиным и Врубелем, а картины Чуйкова вспыхивали перед глазами, как сердечный привет с родины, как живое напоминание о том, для чего ты здесь и чего от тебя ждут.
Счастливой полосой жизни это время стало еще и потому, что, перейдя после школы прямиком в Суриковский институт, Джамбул получил возможность каждое лето принимать участие в семинарах на творческой базе Сенеж, где ежегодно собирались громко заявившие о себе молодые художники из всех республик Советского Союза. Джамбул посещал Сенеж в течение 14 лет, и эти семинары стали для него как допинг, как камертон, как база душевного отдыха и подзарядки подсевших аккумуляторов души. Иногда на Сенеж для участия в семинарах и выставках приезжали классики. Несколько раз был и Чуйков.
— О, Джамбульчик! – громко восклицал Семен Афанасьевич, сердечно обнимая семинариста. Нет, ни семинариста – земляка. И это было первостепенным, как для одного, так и для другого. И все часы встреч на Сенеже они проводили вместе, рука об руку, как это бывает с близкими людьми, случайно встретившимися вдали от родины.
На суперобложке изданного в Москве альбома «Молодые живописцы 70-х годов» среди многочисленных и очень разных молодых лиц, озаренных верой в свое призвание, портрета Чуйкова, понятно, нет. Но стоит Джамбулу открыть альбом, пройтись взглядом по фотографиям семинарских занятий , на которых возникали жаркие дискуссии, по репродукциям картин, по строкам предисловия, как присутствие старшего мастера становится более реальным, чем даже иная крупная фотография, поданная на самом видном месте: … — «изобразительный факт поднимается до уровня символа. Замедленные движения героев его полотен, остановившиеся словно «вечно длящееся» время, отсутствие точных этнографических примет места действия и бытовых деталей – все говорит о желании не просто запечатлеть характерный момент, но и выразить его глубинное значение, возвести его в ранг происходящего «на всем белом свете». Отсюда и та неспешная философичность, взгляд на мир с позиции, когда «в запасе вечность»… — пишет о картинах Джамбула Джумабаева составитель и автор вступительной статьи московский искусствовед Анна Дехтярь. И нетрудно заметить, что все эти определения в иной ситуации выглядели бы очень обоснованно применительно к картинам представителя старшего поколения художников Киргизии, впрочем, не имевшего прямого отношения к семинарам Сенежа, – Чуйкова. Здесь нет желания говорить о влиянии одного живописца на другого – это было бы легкомысленно. А вот о единстве первоисточника художнических впечатлений, говорить, наверное, можно.
И, наверное, не случайно в подборке статей, посвященных столетию С.А. Чуйкова, редакция альманаха «Курак» за июнь-июль 2003 г. сочла необходимым поместить статью Светланы Мацкевич «Искусство С.А. Чуйкова и Дж.Б. Джумабаева – связь времен».
«Для Джамбула Джумабаева именно взгляды, воззрения Семена Чуйкова в большей степени, нежели творчество, — утверждает Мацкевич, — являются важным источником преемственности художественных приемов, живописной манеры. Достижения Чуйкова в искусстве, результаты его работы, внутренняя духовная насыщенность его полотен, к чему художник пришел, в частности, и благодаря своему интересу к открытиям других мастеров – конкретно к Сезанну, все это оказало влияние на творческие взгляды Джумабаева».
Развивая свое понимание преемственности традиций, автор единственного в Центральной Азии чисто художественного журнала пишет далее о том, что «творчество первых художников Кыргызстана – Семена Чуйкова и Гапара Айтиева – стало источником художественных традиций в нашем искусстве. Но для современных художников – это не буквальная преемственность живописных традиций.
В первую очередь творчество этих мастеров является духовным наследием, примером выбора истинной цели в искусстве». И с этим трудно не согласиться.
Тем более что Чуйков и Джумабаев, несмотря на их принадлежность к совершенно разным поколениям и на все внешние отличия анкетно-биографических данных, во многом очень близки. Они относятся к кагорте поистине «вольных художников», и для них единственное мерило всего свершенного на этой земле – картины. Или картина получилась, значит, она есть, или ее нет.
Каждое лето и всю жизнь
Во Фрунзе Чуйков ездил каждое лето, всю свою жизнь, построив ее по образу и подобию кочевого киргиза, который на зиму кочует в теплую долину, а с наступлением весны поднимается на летние пастбища – в горы. И потому с началом осени – Москва, с началом лета – Фрунзе, с напряженной работой в мастерской и с постоянными вылазками на пленер, на этюды.
В советское время такие поездки назывались творческими командировками. Он тоже, наверное, мог бы оформлять такие командировки, если иметь в виду суточные и проездные… Но так и не удосужился. В голову не приходило. Разве можно ездить в командировку на родину? Конечно, академик может позволить себе такое удовольствие – каждое лето тратиться на дорогу чуть ли не через всю страну, но ведь он не всегда был академиком! Был и рядовым преподавателем, не ахти сколько получавшим; был просто художником, вольным не только от хождений на какую-либо службу, но соответственно и от получения зарплаты; был студентом, отсчитывавшим деньки от стипендии до стипендии. Да и на родине, во Фрунзе, никто его особенно не ждал. Мать работала уборщицей, снимала у людей то угол, то комнатку, и всякий раз прямо с вокзала приходилось отправляться на поиски ее нового жилья, благо, городишко был невелик, и все друг друга хорошо знали…
Но и тогда, сколотив за зиму всю возможную толику денег, каждую весну – в Киргизию. И никуда больше. Куда же еще? Ах, да, черноморское побережье Кавказа. Был такой грех, ездили с Евгенией Алексеевной, когда вышла та, первая его книжка, когда на мгновение появились какие-то деньги и вслед за ними – мысль: а что если, как люди, в Гагру, Сухуми, Батуми?.. Были в Сухуми. Были в Гагре. Однако это лишь удлинило обычный маршрут, да и только. Конечная же цель маршрута осталась неизменной: в Киргизию!
Впрочем, стремление вырваться летом в край Ала-Тоо в эпоху турбовинтовых лайнеров, мало кого удивляет. Это ж так всем понятно! Вторая Швейцария! Третья здравница страны! Уникальные, единственные в мире орехоплодные леса с озером Сары-Челек и водопадами Арслан-Боба… А уж об Иссык-Куле и говорить нечего. Какая вода! Какой пляж! Красота какая! Случайно разве в летние месяцы так возрастал наплыв командировочных, приезжавших во Фрунзе бог знает откуда по сугубо «служебным делам»?
Ни разу он не писал Иссык-Куля. Ни разу не прельстился броской красотой заповедных, экзотических мест, хотя поездил по республике на своем газике предостаточно. Все то, что привлекает тысячные толпы туристов и отдыхающих, он видел, знает. Но у него была своя Киргизия. Свое представление о ней. Пусть простят его патриоты названных мест и авторы краеведческих проспектов, но Киргизия для него, вся душа и красота – это прежде всего родная Чуйская долина, ее самые наиобыкновеннейшие предгорья Киргизского хребта, ее хлеба, ее ничем внешне не приметное ущельице Кашка-Суу с негромким ручьем, с зарослями шиповника, с белыми снежниками ничем особо не выделяющихся вершин, с валунными россыпями каменистого ала-арчинского русла. Одни эти россыпи он мог бы писать всю свою жизнь.
И это не просто слова. Изобразив впервые воду и камни горного потока на раннем полотне 1920 года, он вновь и вновь возвращается к этой теме в картинах «Купающийся мальчики» 1946 года, «У ручья» 1947 года, «У подножья Тянь-Шаня» 1950 года, «Утро» 1946 года с разработкой этой темы в трех различных эскизах. А на персональной выставке С. Чуйкова в Москве 1968 года к картине «Живая вода», над которой он работал с 1946 по 1966 год, Чуйков счел нужным выставить 11 этюдов и 9 эскизов, разрабатывающих тему цветовых соотношений речных камней на берегу и в струях горного ручья.
Но разве можно объяснить такую привязанность к определенному мотиву лишь сугубо деловой потребностью сбора цветовой информации для написания картины? Нет, здесь проявилась и потребность души. Не случайно появились именно «Утро», именно «Живая вода». И, наверное, по такой же потребности души в далекой стране Японии и в не менее далеком для нас ХVII веке великий мудрец Басё написал в одном из своих трехстиший:
Вот здесь в опьяненье
Уснуть бы на этих речных камнях,
Поросших гвоздикой…
Москва, люблю тебя, как сын
Да, а Москва? Разве это не потребность души? Вот где тайна художника Чуйкова, тайна необъяснимая. Множество искусствоведов и журналистов, даже самые чуткие и серьезные, вновь и вновь, и все как один, в одни и те же очки не без умиления рассматривали одну и ту же пожизненную пастораль киргизского подвижничества С. Чуйкова, а через нее – и открытия материка индийского материала. Но никто, во всяком случае, я нигде об этом ничего написанного не встречал, ни единым словом, ни единым намеком не коснулся, а, может быть, и не задумывался над такой загадкой: как могло случиться, что у деятельного, активно работающего и передвигающегося по миру художника – всегда с дорожным этюдничком и куском картонки в наплечной сумке, прожившего большую часть жизни в Москве, учившегося и воспитавшегося в кипящем котле московской художнической жизни, которую он знает, любит и которой дорожит, впитавшего в себя лучшие традиции русской многовековой культуры, сложившейся, как многоликий московский китайгород на перекрестке Запада и Востока, Севера и Юга, человека непосредственного, живо, с кистью в руках реагирующего на многие и многие мгновенно возникающие на пути прекрасные проявления природы и присутствия в ней человека, как у него во всем его творческом багаже не оказалось ни одного даже незначительного этюда, ни одной мимолетной «почеркушки», написанной в Москве? А ведь именно Москва была его воротами в мир большого искусства, она была той обогатительной фабрикой, которая сформировала концентрат его художнических способностей, Москва дала ему встречи с разнообразными, талантливыми людьми, именно Москва одарила его общением с полотнами не только Сурикова, Куинджи, Врубеля, Иванова, но и Сезанна, Ван-Гога, Боннара, Марке, всех тех «французов» и «итальянцев», которых приняла его художническая душа и которые, как и Александр Иванов, стали неотъемлемой частью его жизни, его мира.
Впервые потрясшее по его словам, гениальное, полотно Иванова «Явление Христа народу» он увидел в Третьяковке, как увидел впервые в ней «Демона» и «Сирень» Врубеля, Красную площадь и Сибирь на картинах Сурикова. В той самой Третьяковке, которая первой из всех картинных галерей мира приобрела его самые первые, самые скромные и никому не известные опусы. В той самой Третьяковке, в запасниках которой он однажды два месяца рылся, отбирая полотна русских классиков для еще не существовавшего тогда музея изобразительных искусств в далеком Фрунзе. Но это заветное для него здание в Лаврушинском переулке однажды написал не он, а Павел Корин, и оно получилось у него именно коринским, в духе его «Северной баллады» и «Александра Невского». А вот чуйковской Третьяковки нет.
Его друг еще по Ташкентской художественной школе и по Вхутемасу, один из знаменитой троицы Кукрыниксы Михаил Куприянов проникновенно пишет Неглинную и Пушкинскую площадь. Его незабвенный учитель, полжизни проживший «во французах», Роберт Рафаилович Фальк трепетно созерцает сквозь сине-лиловые сумерки и заснеженные купола деревьев церковь Ильи пророка на Остоженке. Находит свои краски для московской зимы Наталья Гончарова, свою Москву пишут Петр Кончаловский (Спиридоновку) и Игорь Грабарь (проходной двор в Замоскворечье). Не остались в долгу перед Москвой ни Суриков, ни Куинджи, а ученик Чуйкова Вадим Дементьев обретает сдержанное очарованье в предзакатных сумерках своего безлюдного и мало кому известного Савельевского переулка. Даже скромнейший Борис Николаевич Яковлев, верхний «сосед» Чуйкова по списку лауреатов Сталинской премии второй степени 1948 года и благожелательный рецензент чуйковской картины «Ночевала тучка золотая», написал свою «Красную площадь зимой» стылой, почти безлюдной, в пастельных, неброских тонах, такую не похожую на шумную, цветастую, всегда заполненную войсками и демонстрантами Красную площадь Константина Юона.
У Чуйкова нет никакой Москвы – ни старой, ни новой, он как-то умудрился пройти мимо нее, ни разу не расчехлив свой походный этюдничек по дороге на Казанский вокзал, с которого всегда уезжал в Киргизию. И это за 60 лет жизни, по-братски разделенной между двумя ее полюсами? Но один-то полюс явно обделен художником, и этот полюс – Москва, с необычайным богатством ее живописной палитры, как этого мог не увидеть такой контактный художник?
Может, он не решался потратить свое реноме этакого однолюба? Но какой же он однолюб, если он с удовольствием работал не только в Киргизии, но и в Индии, Италии, во Франции, в Греции, в Болгарии?
Быть может, просто не любил писать города, работать в толчее улиц?
Но ведь работал же он в старом Дели, да еще в дни празднества Холи, когда индийцы обливают друг друга и всех прохожих разноцветной краской? Работал в Джайпуре и в Бомбее, в Риме у собора Св. Петра, писал в Пловдиве и в Венеции, латинский квартал в Париже, в Бухаре и на крышах Самарканда – все привлекало!
А может, по своей провинциальной закваске все-таки комплексовал и робел вступать в невольное творческое состязание с такими живописцами, как Саврасов, Нестеров, Васнецов, Машков?…
Робел? Но Неаполитанский залив он умышленно пишет именно с той точки, откуда писал его Александр Иванов, а в Арле пишет старые дома, где все так напоминает неистового Ван-Гога.
И думая обо всем этом, я невольно вспоминаю наш давний с ним разговор о «московских двориках», свежо написанных его сыном Иваном, и будто бы он тоже, стараясь как-то помочь сыну, писал какие-то московские крыши, какие-то дворики, но развития этого разговора я не помню, а переспросить давно уже не у кого. И приходится возвращаться к тому, что давно известно по монографиям, посвященным его творчеству, по строкам его собственных книг и воспоминаний. Да и то сказать… Пытаясь найти какой-то самодельный ответ на привидившуюся мне «загадку художника», я невольно оказываюсь в стане тех доброхотов, которые постоянно что-то советовали даже зрелому, сложившемуся мастеру, чья редкая приверженность единственной на всю жизнь теме воспринималась чуть ли не как ограниченность видения мира, творческая, а то и гражданская пассивность. О, это были любопытные беседы. И ведь они могли показаться свидетельством какого внимания к художнику! Вот один из них. Очень деловой товарищ. Кстати, ему приходится заниматься «размещением заказов», почему, собственно, он и побеспокоил многоуважаемого Семена Афанасьевича.
— Над чем работаете, Семен Афанасьевич? Приближается первая послевоенная выставка советских художников, так вы как? Готовитесь к ней?
"Утро в горном селении"
— А что значит – готовиться к выставке? – удивляется Чуйков прозвучавшему вопросу. – Художник работает всегда, вот он и готовится, если под этим понимать работу… Не хотелось бы говорить… Нет, это не суеверие, но когда «выговоришь» задуманное в словах, исчезает сама внутренняя потребность в полотне, понимаете?
— Разумеется, разумеется… — вроде бы соглашается деловой товарищ. – А все-таки?
— Работаю над картиной «Утро в горном селении». Весь первый план – плоская глинобитная крыша с верхней ступенькой приставленной к ней лестницы, посредине – полосатый домотканный палас. Красное, в желтых цветах одеяло. Закопченная печная труба. Белые подушки в изголовье. Черная коса, смуглое плечо лежащей к нам спиной девушки, то ли досматривающей утренние сны, то ли задумчиво глядящей на горы. Мы не видим ее лица. Но мы видим лицо ее младшей сестренки, она сидит на краешке красного одеяла, в ногах у старшей сестры, сидит совсем уж одетая, в выгоревшем светлом платьишке и в зеленоватом жилетике. Заплетая косы, она смотрит на мир. На ее платьице – то ли отсвет красного одеяла, то ли зари… И на лице ее тоже. А выражение ее лица… Нет, скорей всего, это не восторженность, не изумление, она глядит на утро, на землю своего аила с какой-то своей, особенной высоты и потому видит не только это прекрасное мгновение рождающегося дня, но и весь день, с его заботами и трудом. И она встречает этот день с достоинством маленькой хозяйки, со спокойной готовностью подняться ему навстречу. А за ее спиной высятся могучие горы, все полно голубизны, теней и тишины, утренней невесомости и чистоты…
— Послушайте, Семен Афанасьевич…
Оказывается, все это очень мило. И все-таки совершенно не то, что нужно в данный момент. А между тем есть хороший завод, есть коллектив, давно заслуживший того, чтобы художники посвящали ему свои картины. И разве такой уважаемый живописец, как С. Чуйков, не мог бы выполнить столь почетный заказ? Тем более что можно тут же заключить договор. И получить аванс!
— Да вы что, серьезно?
— Не понимаю!
— Так ведь я не знаю заводской жизни, как я могу?..
— Ну зачем сгущать?.. И потом – два года впереди. Поедете, изучите…
— Так ведь люди не инфузории, чтоб их изучать, под стекло не запихнешь. Их не изучать, жить с ними надо одной жизнью, вот и все. Зачем же вы вместо одной хорошей две плохие картины получить хотите?
— Как это?
— Да очень просто. Я напишу плохую картину о заводе. А кто-то плохо напишет мою тему, понимаете? Она уже есть, моя картина, она во мне, я живу ею, я должен ее писать!
— Конечно, конечно, Семен Афанасьевич! Расцвет некогда отсталых окраин и все такое прочее – тема хорошая, нужная, но надо чувствовать и пульс времени, выходить на стержневые темы современности, расширять рамки…
— Рамки? Какие рамки? Я человека пишу! Человека! Может быть, вы подскажете, что может быть «шире» человека?..
На склоне лет в его жизни замелькало Абрамцево. Да-да, именно оно. Писатели облюбовали себе Переделкино, художники – Абрамцево. Здесь все связано с именами Репина и Сурикова, Левитана и братьев Коровиных, с Шаляпиным, Станиславским, Ермоловой, Антокольским, Поленовым. Здесь Серов написал свою знаменитую «Девочку с персиками», здесь были задуманы «Видения отроку Варфоломею» Нестерова и серия картин-сказок Виктора Васнецова. Словом, «здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Мекка русской культуры на переломе ХIХ и ХХ веков. Вот и сыновья дачей в Абрамцево обзавелись – отдыхать, работать. Ну что ж, на то они и москвичи. Но вслед за ними ему приходится туда ездить как отцу, деду. А вот как художнику делать ему там совершенно нечего! Это не для него. Даже в лес пойти за грибами – не по нему. И душно, и простора нет, скорей бы на поляну, на берег реки, повыше куда-нибудь, да оглядеться!
А уж писать что-либо здесь – вовсе невозможно. Левитановский пейзаж! Шишкинские сосны! А иначе он Подмосковья не видит, как не видит моря, не вспоминая об Айвазовском. Потому не хотел ехать и в Индию, а согласившись, почти ничего не взял для работы. Что ему там делать? Вслед за Верещагиным выписывать купола Тадж-Махала?
Ну а горы? Разве никто не писал горы? А его Среднюю Азию, Азию вообще? Разве нет того же Верещагина с почти документально-этнографическими «Киргизскими кибитками на реке Чу», с экзотическим «Богатым киргизским охотником с соколом»? Нет Николая Рериха, феерических красок его гималайских мистерий, монгольских юрт и тибетских монастырей? Так не видит ли он по-верещагински киргизские юрты? Не пишет ли по-рериховски закаты на вечерних снегах? А разве нет Павла Кузнецова? Его «Киргизской сюиты»? Печальной отрешенности «мирискуснических», «голуборозовских» степей и столь же отрешенных от всего земного их обитателей – номадов? Исследователи пишут о «киргизском Кузнецове», о задачах, которые «стояли перед ним в Киргизии». А ведь Кузнецов и не был никогда в Киргизии, просто в те годы, так было принято называть казахские степи, где Кузнецову пришлось как-то в юности побывать. Но и это знакомство с Азией было весьма условно, как условны символические деревья и кибитки, как манерны и иконописны его «киргизки» с голубями и барашками, которых эти придуманные «кочевницы» кормят и поят чуть ли не из рук.
Что ж, когда-то заметное влияние модернизма испытал в своем творчестве и Чуйков. Но это сказывалось недолго. Слишком глубоко, наверное, засели в пятках реальные колючки реальных киргизских степей, столь памятные для босых ног полуголодного и безнадзорного детства. Не потому ли чуйковские юрты ничуть не похожи на верещагинские, как чуйковский «Охотник с беркутом» — на верещагинского «Богатого киргизского охотника с соколом»?
При всем неприятии войны молодой Верещагин все же смотрел на Туркестан из лагеря русских экспедиционных войск то глазами бывалого прапорщика, награжденного за боевые доблести офицерским Георгием, то регистрирующим оком этнографа-ориенталиста, наконец-то добравшегося до заветных чудес.
Вот Рерих. Яркий, театрально-декорационный язык его полотен. Высокогорный ультрафиолет красок, разреженный воздух которых так далек от земли людей, как далеки символы тибетской мифологии от реалий сурового человеческого бытия, от образов тех же жителей Кулу, селения, где находилось поместье Рериха. Вот серия картин: «Знамена Востока», «Будда Победитель», «Конфуций справедливый», «Миларепа Услышавший», «Нагарджуна – Победитель змия» и т.д. Так Восток воспринимался. Так осмысливался и изображался.
У Чуйкова все было иначе. Он родился на Востоке. Впрочем, родившийся на Востоке никогда так свою родину не назовет.
С приездом, Семен Афанасьевич!
Он только что приехал из Москвы, мы шли с ним по улице Южной, и тут его кто-то окликнул. Я не смогу назвать этого человека, да, кажется, он был мне и не знаком, но слова его я запомнил. Запомнил потому, что сказаны они были вполне благодушно и приветливо, и меня невольно поразило, как мгновенно, с едва сдерживаемой досадой отреагировал на них Чуйков.
— С приездом, Семен Афанасьевич! Опять во Фрунзе? Опять к нам?
— Что значит – к вам? Я к себе. Я на родину.
Наверное, ему не раз приходилось отвечать подобным образом на подобные вопросы, но смысл этой мимолетной оценки я понял лишь со временем, а тогда – чуть было не пропустил мимо ушей. Одни спрашивали так по бездумию и душевной глухоте. Другие… Другим почему-то очень надо было сделать его эдакой столичной штучкой, заезжим, залетным гастролером, лишь иногда, от случая к случаю вспоминающим о южном тепле, о горной природе и фруктах и имеющим к здешней художнической жизни, к ее истории, становлению лишь номинальное и косвенное отношение. И он чувствовал истинные, подводные токи таких «любезных» вопросов. И они его больно задевали. И он тут же невольно ощетинивался, и его ответы были такими же щетинистыми и непримиримыми.
Как деятель культуры, искусства, он не мог жить без Москвы. Она была для него средоточием художнического мира, она оделяла его всей мерой профессионального общения, она давала возможность постоянно и своевременно быть в курсе всех событий, тенденций, веяний культуры и искусства, хотя он никогда не подлаживался к этим веяниям и тенденциям, а сумел сквозь всю жизнь пронести именно свое и нигде не заимствованное. И потому воздух Москвы еще со «вхутемасовских» времен был для него испытанным средством против провинциальной ограниченности, провинциального самодовольства и успокоенности, и таким же средством против ограниченности столичной, столичного самодовольства и успокоенности была для него его Киргизия, которую он открывал для себя еще в юности, а для других людей – до последней черты.
Это ежегодное противостояние Москвы и Фрунзе, их постоянная смена, как времен года, из года в год разрывали и в то же время соединяли воедино всю его жизнь.
Как художник, как человек, родившийся и выросший у подножия Ала-Тоо, он не мог без Киргизии. Была, правда, в его жизни и Индия, серия картин о которой принесла ему столь громкую и прочную известность, но ведь и Индия, если он смог прочесть душу ее народа, ее Гималаев, стала событием для него опять-таки лишь потому, что прежде была Киргизия, ее люди и горы, был его, «киргизский», опыт постижения инонационального характера, интернациональной, гуманистической сущности подлинного искусства.
«Еще мальчиком, делая свои первые шаги к искусству, бродя с самодельным фанерным ящиком красок по окрестностям городов Верного и Пишпека… — писал Чуйков в книге «Образы Индии», – я наблюдал жизнь киргизской и казахской бедноты. Рваные, прокопченные дымом многолетних кочевок войлочные юрты, казалось, состояли из одних заплат… Но в этих же юртах я слышал хватающие за сердце песни о любви, дружбе, счастье, видел, как проходит в радостях и печалях человеческая жизнь…»
Этот абсолютный слух, настроенный на восприятие иной жизни, иного народа, иных понятий красоты, прекрасного, позволил Чуйкову создать картины, одухотворенные таким глубинным и сострадающим проникновением в киргизский материал, какое, кажется, доступно лишь художнику одной с этим народом крови, одного языка, одной судьбы. Не экзотика, не стилизация, не любая другая формалистическая тенденция в художественном восприятии и изображении этноса, чего, кстати, не могут избежать и иные национальные живописцы, но истинно народный дух киргизских полотен Чуйкова настолько убедителен в своей первородности, что посетители музеев и выставок нередко считают Чуйкова киргизским художником в самом буквальном значении этих слов.
Да что говорить, я и сам нисколько не сомневался, например, в том, что Семен Афанасьевич в совершенстве знает киргизский язык. И я был немало удивлен однажды его признанием, что язык он, к сожалению, почти не знает, знает какие-то разрозненные слова и потому только понимает, о чем речь. И я всегда поражался, как естественно входил Семен Афанасьевич в живую среду предгорных киргизских селений, как сугубо своим человеком сидел за скромным дастарканом незнакомой киргизской семьи, как часами поддерживал беседу с сельскими любителями поговорить «за жизнь», зная лишь десяток-другой самых расхожих слов и выражений, но зато умея произносить их, как самый коренной и только что из глубинки киргиз, еще не испорченный вселенской урбанизацией и городским сленгом. И еще он был неплохим знатоком различных междометий, одобрительных, подтверждающих или сочувствующих реплик и возгласов, которыми он пользовался с таким искусством и тактом, что его седобородые собеседники всегда были в полном удовлетворении от столь редко ныне встречающегося, столь внимательного и благожелательного слушателя.
Сейчас много говорят о двуязычии, видя в этом чуть ли не главный залог межнационального общения и вообще интернационализма.
И я вспоминаю Чуйкова, которому как горожанину, полумосквичу и полуфрунзенцу так и не удалось как следует изучить киргизский. Но он владел другим языком, который понятен всем и повсюду, где бы ни приходилось бывать художнику, — языком истинной сердечности и простоты, неподдельного интереса и уважения к человеку, кем бы он ни был и на каком бы наречии он ни говорил. И таким языком владеет далеко не каждый, даже если ты лингвист, полиглот и плюс изъясняешься на эсперанто.
Эх, Пишпек ты мой Пишпек
Он родился в Киргизии, в Чуйской долине, в Пишпеке, в семье писаря местного лазарета 30 октября 1902 года. Отец – выходец из оренбургских крестьян, мать – из черниговских, а родилась под самым Пишпеком, в дороге, во время переселения.
Первые годы Чуйковы жили у деда, когда же Семену исполнилось пять лет, стали снимать жилье неподалеку от лазарета. Потом переехали в Верный, но и там жили по соседству с лазаретом, точно так же на самом краю города, где прямо из окон была видна степь, а за степью – горы. Когда семья распалась, мать вернулась в Пишпек. Теперь Семену приходилось жить то у отца, то у матери, а позже и вовсе у чужых людей. Неизменным оставалось одно, на все детство: окраина городка, бурая от верблюжьей колючки степь, а за степью – горы.
Людям пожилым свойственно сетовать на память. Сетует и он. Но то, что происходило пятьдесят, шестьдесят, а то и более лет назад, помнит прекрасно, вплоть до самого несущественного, вплоть до лиц тех фельдшеров, унтер-офицеров, что приходили в их дом по вечерам к отцу с картами и водкой, с последними гарнизонными новостями, с набором одних и тех же солдатских шуточек, таких же унылых и скучных, какою была сама жизнь.
— Эх, Пишпек ты мой Пишпек, не забудем тебя век!
Ему кажется, что он и сейчас узнал бы их, встретив на улице, узнал бы и их детей, с которыми бегал по пыльным пишпекским улочкам, писаря Юдина, чья вновь и вновь повторяемая шутка всегда вызывала гомерический хохот собравшихся – взрослых и детей: «Станция Верный! Пожалте яблоки кушать!».
Надо же придумать такое! Верный – и железная дорога! Пишпек – и железнодорожный кондуктор с выпученными глазами и со свистком на медной цепочке! Ну, уважаемый, потешил! Это и во сне не приснится. Он и через тысячу лет, говорили они, останется все такой же глухоманью: Пишпек, обиженный богом, проклятый людьми, и не город, и не деревня, не поймешь что, выросшее на ташкентском тракте у глинобитных руин кокандской крепостницы, посреди полынной каменистой степи, на виду у гор.
Нет, те горы, которые со временем так безраздельно войдут в его жизнь, в их истинном масштабе и значении поначалу как-то даже и не воспринимались. Слишком уж были они великолепны, высоки и отдалены, снеговые вершины, чтобы думать о них или стремиться к ним. Просто они были – и все. Как солнце. Как облака и звезды. Куда интересней в ту пору была сама земля. Та же степь за крайними домишками, где росли приземистые кустики дикой вишни. Те же начинавшиеся прямо за мазанкой деда непроходимые заросли джерганака – теленок убежит, так и не найдешь! Тот же арык, и теперь протекающий по нынешнему бульвару Эркиндик, в котором ничего не стоило за какие-нибудь полчаса наловить ведро крупной рыбы. Это посреди-то города! Те же привалки. Близкие, доступные. Туда ходили.
Да еще как любили, особенно весной, когда эти предгорья загорались тюльпанами, а на крутизне росли сочные стебли кислички, напоминавшей по вкусу зеленые яблоки. В травах водились змеи и черепахи. Однажды Семен протянул руку за спелой, запекшейся от жары вишенкой и вдруг наткнулся взглядом на пеструю, серенькую ленту, торчком застывшую в воздухе над кольцами свернувшегося в спираль хвоста. Странная лента зыбко раскачивалась перед самой ладошкой. Он с удивлением разглядел черные бусинки немигающих глаз, черный раздвоенный язычок. Только тогда сообразил дать деру. Да такого, что колючек не почувствовал, хотя минуту назад они не давали ступить и шагу!
А сами колючки! Зеленые, мягкие, похожие на крошечных ежей, они к середине лета высыхали и превращались в столь же крошечные бомбы, разрывающиеся под ногой на множество осколков-шипов. И тогда пятка напоминала подушечку для иголок. К середине лета, однако, пятки приобретали такую степень «выделки», что подчас мальчишки нарочно бегали по сплошь покрытой «ежами» земле, когда надо было продемонстрировать перед кем-нибудь бесстрашие и характер…
Пишпекские пацаны вообще были людьми с характером, а их самостоятельность проявлялась не только во время вылазок в горы или набегов на соседские сады – мальчишки пускались и в более серьезные предприятия.
— Хочешь наняться к дунганам рис полоть?
— За деньги?
Гурьбой шли наниматься. Гурьбой лезли на высокую узбекскую арбу с огромными и медлительными колесами. Долго ехали вниз по степи, удаляясь от городка, от гор. Но горы, странное дело, не только не уменьшались, а, кажется, наоборот, приближались, вырастали, становились все выше и могучей, пока не закрыли полнеба. Оказывается, это вовсе не обязательно – иметь возможность подробно рассматривать каждую мелочь, каждую подробность, чтобы разглядеть главное. Расстояние – вот что все ставит на свои места!
К вечеру доехали к прибрежным чуйским камышам, к рисовым полям. Воздух звенел от комаров, и рваная палатка, в которой мальчишек устроили на ночлег, ничуть не спасала. Кто был побойчей – забрался в середину, а Семену досталось лечь с краю, прямо у дыры, над которой курилось темное облачко комариного роя. К утру Семена было не узнать. Искусанное в кровь лицо распухло, глаз почти не видно, и когда на третий день мальчишки взбунтовались и хозяин пришел выяснять причину их недовольства, пацаны вытолкали вперед самого младшего – Семена. С окровавленной физиономией, с заплывшими донельзя глазами.
— Вот что вы с нами делаете!
Тут уж Семен не выдержал – заревел. Да и другие мальчишки зашмыгали носами. Это было в самом деле непосильной работой – чуть свет лезть в холодную воду и целый день острой лопаточкой рубить, рубить под корень жесткий камыш, страдая от комаров, порезов, от холода и усталости. Хватит. Пусть хозяин их рассчитает, они уйдут домой. Хозяин не будет перевозить через речку? Ничего, переберутся сами. Хозяин не собирается везти их в Пишпек? Ладно, дойдут пешком, но теперь они и минуты здесь не останутся, расчет и все!
Семен заработал сорок три копейки. Все пишпекские мальчишки щеголяли в ремнях, а у Семена ремня не было. Едва добрались до Пишпека – тут же отправился в магазин и купил ремень. За сорок копеек. Три копейки отнес матери. Вот и все… И еще, в памяти – пыльная степная дорога, мальчишки, бредущие по обочине с мешками на плечах, придорожный пруд, стальной отблеск недвижимой воды, а посредине этого зеркала – темный силуэт чирка… Увидел. Запомнил. Оказалось, что на всю жизнь.
Где был? В киргизах
За пишпекскими привалками, за выгоравшей к середине лета верблюжьей тушей горы Боз-Больток вся на виду у высоких, «настоящих» гор, внизу зеленых и курчавых от арчи, а вверху сверкающе-белых, снеговых, лежала долина Байтик. По белому, раскаленному от солнца галечнику с плеском и шипеньем бежала Ала-Арча, а в темной мерлушке облепиховых зарослей по ее берегам водились фазаны и зайцы. На Байтике дед арендовал у киргизов две десятины земли. С поля он приезжал к вечеру, и что за радость была услышать скрип открываемых ворот, смиренное пофыркивание усталой лошади, увидеть расторопную, шуструю фигуру, рыжеватую бороденку, а на дне брички – то сноп благоухающего клевера, то плетенку пупырчатых огурцов, еще хранящих тепло земли! Что за страсть была упроситься с дедом на Байтик, а то и не с дедом, с соседями, с кем угодно! Что за отрада была полдничать в тени шалаша, глядеть на меркнущие от зноя снега таких близких и таких далеких вершин, вглядываться в здоровые, простые и загорелые лица, слушать по вечерам говор и песни всласть потрудившихся девчат!
Деда звали Егором Антоновичем. А вообще-то, просто Егором. Он был ломовым возчиком, сапожничал и шорничал, не верил ни в бога, ни в черта, был остер на язык и легок на дружбу. Доставалось от него разве что бабушке Марфе, которую он постоянно задевал, вышучивал, особенно по вечерам, когда та грузно опускалась на колени перед иконой и начинала молиться.
— Благодатная Мария…
— Какая бородатая Мария? – тотчас отзывался дед, выставив бороденку из-под ватного одеяла, сшитого из разноцветных лоскутков.
— У, черт старый, — не выдерживает бабушка его подначек, — внука постыдись!
— Вот ты и стыдись, — смеется дед, затягиваясь своей привычной «козьей ножкой», — богу молишься, а на языке – черт!
Бабушка говорила на украинском. Дед – на вольной мешанине русского с украинским, а то и с киргизским: что пришло прежде всего на ум – то и шло в дело, мешкать дед не любил. По-киргизски дед разговаривал чисто. Да и все у них в доме говорили по-киргизски, а Васька, младший сын деда, и значит, приходившийся Семену дядей, так тот и русский стал забывать – все дни пропадал «в киргизах». Васька был страстным лошадником. И без него не обходилась ни одна байга. Однажды пропадал целую неделю, а когда наконец появился, дед с чувством огрел его по спине подвернувшимся под руку бидоном из-под керосина. Еще бы! Купили коня. Задешево! А ни запрячь, ни под седло, потому что этот дьявол допускал к себе только одного человека – Ваську!
— Где был?
— В киргизах!
«В киргизах» любил бывать и сам дед. А киргизы любили приезжать к деду, «к Егору», как они говорили. Приезжали те, у кого он арендовал землю. Те, кому чинил, шил сапоги или конскую справу. Ехали просто знакомые или знакомые знакомых, кому надо было в город, на базар, а значит, надо и где-то приткнуться на ночь. Они ставили на дворе лошадей, стаскивали с высоких седел полосатые курджуны; в узкой горнице враз становилось тесно от громоздких фигур в стеганых халатах, в меховых тебетеях и войлочных ак-калпаках, от густого духа сыромятных кож, застарелого айрана и чаначей с кумысом, кошм, продымленных у кизячных и арчовых очагов, бараньего сала и конского пота. Эти люди приехали с гор! От них пахло кочевьями и горной волей! Не было для мальчишки ничего интересней, чем, забравшись куда-нибудь в угол, разглядывать из своего убежища их высокие от ак-калпаков силуэты, неясно вырисовывающиеся на фоне тусклых, чуть ли не в землю уткнувшихся окон.
У родителей все было иначе. Болезненный, тщедушный отец был робок не только с людьми, но и в семье был неприметен. Даже из соседей мало кто верил тому, что Афанасий смеет поднять руку на жену. Да так оно и было, пока отец был трезв. Напившись, тотчас преображался, начинал буйствовать, и тогда от его кулаков не было пощады никому: ни жене, ни детям. Прятались у соседей, по садам, в огородах. А утром – отец ничего не помнил. Семен запомнил все. Может, оттого было легче ему скитаться по чужим людям. Чувствовать чужое горе там, где другой, даже добрый, хороший человек ничего не заметит. Да и только ли в состраданье дело?..
Однажды отец сказал:
— Сегодня пойдем в казармы. На спектакль.
— На спектакль?
— Ну, представлять будут! Понятно?
Длинная казарма, душный мрак табачного дыма, забитые солдатами задние ряды. Передние скамейки пустовали: ждали начальство. Семен поднял глаза и увидел занавес. Нет, не занавес! Он увидел аспидный бархат летней ночи, темные силуэты едва различимых тополей, светлую дорогу, спускающуюся с холма к залитой мраком реке и белые украинские хатки, ярко высвеченные из темени щедрым светом луны, таким сильным, что можно даже разглядеть сохнущее на плетне белье.
— Куда? – громко зашипел отец.
Семен бежал к занавесу. В зале засмеялись. Он разглядывал потрепанный край занавеса со следами осыпавшейся краски, отогнул угол. Это была мешковина. Обычная, пыльная мешковина, от которой несло холодом и затхлым духом запущенного помещения. Это было невероятно. Ночь исчезла! Подбежал отец, потащил на место, и снова на нищем, грубо намалеванном каким-то солдатом-самоучкой занавесе засияла колдовским светом куинджевская «Украинская ночь» — первое художническое потрясение Семена Чуйкова. Спектакль его уже не интересовал. Он превратился в досадную помеху, из-за которой убирали занавес. А на этом занавесе все было как «взаправду», все, как ночью в Пишпеке: и светящаяся во тьме дорога, и белые стены под камышовыми крышами, и все-все! Невероятно!
Семи лет его отдали в церковно-приходскую школу. К тому времени он был владельцем книжек про Бову-королевича и Еруслана Лазаревича, и в этих книжках были картинки. Картинки как картинки, никаких особенных чувств они не вызывали. Как и сама учеба. Однако учился Семен хорошо, хотя начинал в Пишпеке, а окончил школу в Верном, куда в 1912 году перевели отца. Ученье давалось легко, и учителя советовали учиться дальше. Не могли только посоветовать – каким образом? Отец платить за ученье не мог, так что о гимназии нечего было и думать. Городское училище? Но оно тоже платное, разве что удастся добиться места, которое оплачивает «общество воспомоществования бедным учащимся»?
…Горькая, подчас даже непосильная милость. Директором училища был некий Есютин, выходец из богатой казачьей верхушки. Он же преподавал геометрию. Прекрасно, по верненским меркам, образован, прекрасно одет, ухожен, может, оттого столь изощренно пытал он «дармового» ученика.
Раз в месяц Есютин поднимал Чуйкова из-за парты.
— Ну-с, милейший, так сколько получает твой отец?
Семен стоит у доски, красный от унижения, от невозможности избежать этих вопросов:
— Шесть рублей, — отвечает он, низко опустив голову.
— А что, доход имеет какой-то?
Класс гогочет. Он привык к этому развлечению, а из таких вот нищих в классе только Чуйков и есть. Есютин прохаживается перед классом, поглаживает эспаньолку, и, когда он круто поворачивается, фалды сюртука изящно отлетают в стороны, показывая шелковый подклад.
— А что у вас на обед бывает? Второе блюдо бывает? Что молчишь? Ты не знаешь, что такое «блюдо»? Ах, каша? Да-да, с маслом или как?..
Сбежать бы! Бросить все и сбежать. Но куда? И потом он очень хочет учиться. Ему надо учиться! И не все учителя такие, есть и хорошие, душевные люди!
— Так что, милейший, отец пьет? Как часто? И что, дерется? Каким образом?..
…Санька Толоконников сидел впереди, и когда он достал тетрадь для рисования, ее нельзя было не увидеть. И Семен увидел. На открытой странице гнулись под ветром высокие тополя, а в синем небе светились просвеченные солнцем кучевые облака. И еще была трава, песчаный берег речной излучины, все это было так же неожиданно и прекрасно, как занавес в солдатской казарме с куинджевской «ночью» на кое-как сшитом рядке.
— Что это?
— Нарисовано, — снисходительно ответил Санька.
— Кто? Рисовал кто?
— Я.
— Ты?
— Я.
Это было неслыханно. Это было громом среди ясного неба, открытием Америки и еще неизвестно чем. Оказывается, это можно нарисовать. Можно нарисовать все, что увидишь! Все, что захочешь! Санька нарисовал! Значит, может попробовать и он, Семен, хоть в это совершенно невозможно поверить!
— Чем? Чем рисовал?
— Акварельными красками.
— Как? Где взял?
— В магазине Шахворостова!
— И всем продают?
— А то нет?
— И я смогу купить?
— Ну а чего ж? Подумаешь, акварель!
С трудом выпросил у отца денег. Кое-как дождался следующего утра, купил краски. Шалея от восторга, помчался в сад, сломал окрашенную сентябрем веточку, уселся рисовать зелено-бурые листья. Потом появился блокнот с карандашными набросками, которые делал где придется, на лету схватывая черты то своего товарища, то учителя в неутомимом стремлении воссоздать их образы на листе бумаги, да так, чтоб были похожи, чтоб, как живые, были, не иначе.
С отцом Семен о своем новом занятии не говорил. Матери, когда приехал в Пишпек, на каникулы – родители в то время уже разошлись – сказал. Да какое сказал – просто извел просьбами отвести к какому-нибудь художнику и сдать в ученики. Он как-то слышал, что художники берут мальчишек растирать краски. Может, посчастливится и ему? Вот только есть ли в Пишпеке художники? Хоть какие-нибудь?
Мать повела его к фотографу Дрампяну. Тот и дверей не открыл. Потом попались на глаза писанные маслом вывески, и тогда мать и сын отправились искать создателя этих «полотен». Единственные в Пишпеке живописные творения, изображавшие молодых красавцев с нафабренными усами и в котелках, были подписаны фамилией «Подхапов», а одно из них сопровождалось и титулом – «живописец вывесок». Постучались к Подхапову. Он был сначала удивлен, потом растроган. Он даже провел в горницу, где неожиданно принялся изливать душу и показывать то, что когда-то писал «для себя». Еще бы, его приняли за художника! А какой он художник? Маляр! А ведь было время – горел, мечтал! Проклятая нужда! Не поверите, ведь в училище живописи учился. И ведь писал что-то. Для души писал! Вот, смотрите, Никола-угодник. Вот Пресвятая богородица… Нужда заела. Какая живопись? Что вы, ученика взять! Тут самому не прокормиться. Это хорошо, конечно, что мальчишка мечтает, только чем он, Подхапов, может помочь? Тут одно выручит, увлечения быстро проходят в таком возрасте, и это пройдет. Глядишь, мальчишка и успокоится. Таким ли голодранцам, как они, как сам он, Подхапов, мечтать о живописи?
Увлечение не проходило. Наверное, потому, что это не было просто увлечением. В классе Чуйкова не называли иначе, как художником. Учитель рисования Хлудов стал вызывать Семена к доске, и Семен рисовал классу задание – то собаку, то кошку. Раньше Хлудов приносил «гипсы», теперь преподавание для него и вовсе упростилось. Разве что пройтись по рядам да хлопнуть одного-другого линейкой по затылку.
А Семена уже не привлекали ни «гипсы», выставленные на кафедре, ни экспромты на классной доске, ни карандашные портреты товарищей, какие бы лестные отзывы не приходилось выслушивать.
…Вскоре он вовсе перестал заниматься такими упражнениями, а в блокноте все чаще стали появляться наброски то гор, виднеющихся из окон дома, то проселочной дороги к архиерейской даче, по которой из города можно было попасть к горам, то скудно одетых казахов, везущих по этой дороге на базар вязанки хвороста или курая. Ему приходилось бывать на базаре, и там, возле печей, где пекли и продавали еще горячие лепешки и самсу, возле чайхан, где торгаши из Ташкента и Кашгара вершили сделки за пиалой кок-чая, он видел оборванных, голодных людей, которые за кусок хлеба день-деньской подкладывали курай в круглые жерла раскаленных тандыров.
— Не хочешь учиться? На базаре курай подкладывать хочешь? – любили стращать провинившихся учеников верненские учителя.
А Семена они-то и интересовали, эти люди, и на «дне жизни» сохранившие в себе куда больше человеческого, чем многие из тех, кто поглядывал на них с призрачной высоты своей благополучной и добропорядочной жизни. Вот эти, в дочерна заношенных халатах и тюбетейках!
(ВНИМАНИЕ! На сайте размещено начало книги)
Скачать полный текст книги с иллюстрациями – картинами С.Чуйкова
© Дядюченко Л.Б., 2003. Все права защищены
© Издательство "ЖЗЛК", 2003. Все права защищены
Количество просмотров: 10215 |


