Главная / Художественная проза, Крупная проза (повести, романы, сборники) / — в том числе по жанрам, Драматические
Произведение публикуется с разрешения автора
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 2 января 2012 года
Цыпленок и самолет
Роман уникален не своими этнографическими картинками уйгурского уклада жизни, а тонким проникновением в мир человеческих ценностей, вечных с библейских времен, простых людей. Тонкий психологизм, мягкий юмор — вот что присуще известному уйгурскому писателю, автору более двадцати высокохудожественных произведений, снискавших заслуженное признание широкой читательской аудитории.
Публикуется по книге: Ибрагимов Исраил. Цыпленок и самолет: Роман. — Бишкек: Dostuk, 1994. – 128 с.
ББК 84.Р7
И-14
ISBN 5-7261-0928-Х
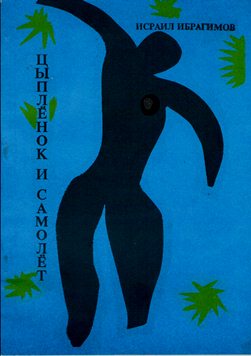
Дорогому Ялкунжану Мунарову, бережно хранящему в своем сердце любовь к своему народу, к родной культуре —
сокровищнице благодатных знаний, источнику неизбывных и прекрасных надежд.
1
Верно говорят: большое порою зависит от пустяка, того, чего при желании не разглядеть и через лупу: такой крохотный, неприметный — ну, мелочь, пустячок! Взялся бы человек пограмотнее за такую арифметику: сколько по милости этого пустяка летит прахом, но сколько и обязано ему хорошим! Пустячок, что недосол — ешь, во рту ощущение пустоты; пустячок, что пересол: есть хочется, а есть нельзя… И все это зависит от каких-нибудь щепоток соли…
Настроение Сабиры-адам часто зависело от того, какие сны ей виделись минувшей ночью. Сновидения для нее были вроде нормы соления в поваренном деле: хорошие сны — доброе предзнаменование, плохие – серость и все такое, от чего на душе пресно. Казалось, не очень много нужно, чтобы увидеть хорошие сны. Сабира-адам считала непременным условием для этого правильное положение во время сна. Лучше всего спать на боку. Кстати, об этом как-то твердило радио в одной из своих замечательных передач — ее Сабира-адам слушала с начала до конца. И это не все. Лучше всего спать на правом боку. Может быть, для кого-то и все ровно на каком боку спать — на левом или на правом. Есть такие, которые, пожалуй, и на голове, ногами кверху, заснут: подушечку под макушку — и готово. Верно говорят, что люди устроены по-разному каждому свое: тому — то, этому — другое. Может быть и так. Только если придерживаться медицинских премудростей (вот польза от слушанья радиопередач), если считаться с наукой, то лучше всего спать на правом боку. Доктора полагают, что такое положение наиболее благоприятное для нормальной работы сердца, тем более сердца больного, работающего, как у Сабиры-адам с перебоями; хуже, когда вдруг тебя опрокинет во сне на спину — не миновать тогда кошмарных видений. Сабира-адам боялась кошмаров, старалась их избегать. С помощью небольшой хитрости: она всегда, как ни странно, ложилась на спину, могла лежать так сколько угодно, до тех пор, пока облаком не подступал сон. И когда “облако” готовилось замкнуть явь, она — р-р-раз — переворачивалась на бок, да ни на какой-нибудь, а именно на правый…
Сабира-адам и Тохтам — сын Закира-аки легли спать рано. В последнее время сын Закира-аки не был похож на себя: ночью метался, толкался локтями, вскакивал с постели, вдруг садился и долго нудно стучал по спиртовой коже поверх сапожной металлической лапки, надрывно порою кашлял — возможно ли в такой обстановке заснуть? Если и удавалось, от того не становилось легче: казалось, некто во сне усердно колотил по голове – просыпалась она с головной болью, а о настроении лчше не говорить…
Перед сном супруги поговорили о разных вещах. Сабира-адам пообещала завтра на ужин сварить чучвару*. Сын Закира-аки солидно промолчал. Но она-то знала: кто-кто, а муж наверняка рад чучваре. Сын Закира-аки прямо таки обажал чучвару, предпочитая ее всем другим, казалось, не менее изысканным блюдам, во время варки чучвары слонялся по кухне, досаждая нетерпением хозяйке.
(*Чучвара /уйг./ — пельмени)
Сабира-адам повела речь о бессоннице — муж незаметно увел разговор в сторону — в свое.
Бессонница? Да разве она от того, что он, Тохтам сын Закира-аки, толкается локтями, кашляет?! Тут тайн никаких: не спится любезной супруженьке оттого, что она перед сном много думает, перебирает в памяти — она у нее на удивление цепкая на житейские мелкие и крупные события — так вот это от того, что она перед сном перебирает в памяти всякого рода пустяки, думает что-то, скажем, о козявке тысячелетней давности, или птахе, певшей над ее колыбелькой, или перижитом, скажем, какой-то неровности в строке под иглой нвейной машинки, случившейся много лет назад — вот от чего бессонница!
Впрочем, странностей у старухи хоть отбавляй.
Вот это, например — куда как не странность: в беседах с ним, подражая этой разъязыкастой насмешнице Аимхан, она никогда не назовет человека нормально, как положено по имени и только обязательно, не то посмеиваясь, не то серьезно присовокупит и имя отца. Такая-то, мол, дочь Того-то, а Такой-то — сын Того-то. Разве что для него, супруга, да сына Адылжана, да брата Ислама сделаны исключения. Но то — супруг, сын, брат, тут с великим трудом повернется язык сказать: Тохтам — сын Закира-аки, Адылжан — сын Тохтама, Ислам — сын Немата-аки.
Однако сыну Закира-аки было не до глубоких размышлений о странностях жены. Бессонница, конечно, серьезно, но сына Закира-аки волновало другое, он вдруг стал жаловаться: на рынке изделия обувщиков-кустарей перестали пользоваться спросом. Измельчали вкусы людей, что же с того, что люди успели слетать в космос. Космос космосом — быт бытом! Теперь подавай только штампованную продукцию. Правда, люди и раньше опустошали прилавки обувных магазинов. Отчего? Да из-за нужды великой в повседневной обуви — там этого добра горы. Праздничную обувь от повседневной отличает примерно то, что разнит скаковую лошадь от плешивого ишака. Какую праздничную обувь шили в былые времена мастера! Блеск лака, мягкий в гармошку хром, отделанный орнаментом из яркой цветной кожи! А сейчас?.. Ботинки на полуметровой резиновой подошве! С полуметровым каблуком! С рантами — что тротуары по обе стороны улицы!.. Сын Закира-аки едва не поперхнулся радостью, когда Баратахун — сын Сабыра-аки, этот пучеглазый Баратахун, этот Пучеглазый, наводнивший
центральный рынок лепешками и ранними овощами, богатей и любитель подковырок – так вот, сын Закира-аки с трудом сдержал в себе восторг, когда Пучеглазый, которого он недолюбливал за прижимистость и хвастливость. Вдруг попросил его сшить сапоги. Да, праздничные, из хрома с подкладкой из светлой козьей кожи — вот какие! Его не интересовали причины столь неожиданного заказа, хотя намечавшееся предприятие не содержало секретов: Пучеглазый готовил свадьбу младшего сына, сотворенного им благодаря аллаху в почетнном возрасте — понятно желание его выглядеть на тое наилучшим образом. Сын Закира-аки уже не помнил, когда в последний раз держал в руках настоящие хромовые сапоги, и — на тебе, заказ. После недолгих размышлений он решил смастерить сапоги со скрипучками. Он знал, что скрипучки изготовляются из березовой щепы и вставляются между подошвой и стелькой, но каким образом, под каким углом — это вспомнить удалось не сразу. Но нынче сапогиготовы, осталось прибить каблуки и аккуратно извлечь деревянную колодку. Словом, было от чего быть довольным: сапоги под тяжестью в колодках издавали удивительные звуки: г-г-г-р-р-р-к-к-и-и, г-г-г-р-р-р-и-и-и-к-к-и-и — что будет, когда Пучеглазый, напялив их, пройдется по асфальту?! Сын Закира-аки почувствовал, как сладко заныло в душе, представилось: Пучеглазый, важно заложив за спину руки, шествовал по тротуару, а отовсюду слышалось:
— Добрый день, Баратахун! Как жизнь? Е! Где отхватили сапоги? Кто мастер? Тохтам? Вы сказали: Тохтам Пазылов? Значит, все еще поколачивает молоточком. Как-то виделись с ним — все прибеднялся…
Сабира-адам отнеслась к затее мужа раздвоено: подступало нечто, от чего становилось одновременно и грустно, и хорошо — жалость.
Вот как!
Ей жаль мужа: сдал человек, отвисли щеки, собрались в морщинистый комочек уши. А ведь когда-то… Нет,нет, и тогда — кстати, сколько лет минуло с той поры, когда они волею судьбы, соединились? Считай: только-что оклемались от голода, а до войны оставались считанные годы — выходит, почти сорок лет назад! – так вот, и тогда, сорок лет назад, муж хромал. Но хромал иначе, лихо, молодцевато, да так, что Пучеглазый тогда в кругу дружков, говорят, сказал:
— Красиво шагает! Счастливый человек! Нет бы и мне споткнуться о косу!
Но, вот как бывало не раз, чувство жалости вытеснило другое, смахивающее на смешинку, но смешинку, надо сказать, сердитую.
Сапоги хромовые со скрипучками! Да, кажется, случалось — мастерил такие сапоги муж. Дважды или трижды — не больше, да и когда это было. Она отлично помнит: разлюбезному супругу здесь, в городской артели, вначале разве что мелкую-премелкую работу доверяли — поставить заплатку, выправить подошву, да прибить косячки на каблук, словом, всякого рода мелочь. Сколько раз собирался бросить сапожное дело — смех! А чтобы сапоги хромовые… Нет, впрочем, действительно он несколько раз мастерил сапоги. Да, хромовые. Да, со скрипучками. И все же для нее муж был и остался обувщиком-ремонтником, ей казалось, что тот только тем и занимался всю жизнь, что латал, да перекраивал…
О, Тохтам, Тохтам! Подумать только, как обрадовался заказу Пучеглазого, этого Баратахуна — сына Сабыра-аки!
Сабира-адам почувствовала, как качнуло, понесло в сон. Уснуть, однако, не удалось сразу. В момент, когда перед нею мелькнули первые расплывчатые кусочки видения, она проснулась от резкого толчка,
— Что же вы так! — сказала она спросонок. — У вас не руки — настоящие сапожные лапки.
— Вы храпели, — произнес несколько раздраженно муж.
— Оттого толкнули?
— Разумеется. Я поступил бы так даже в том случае, если бы ваш храп, извините, был подобен пению Раушангуль Иллахуновой.
— О, боже, — простонала Сабира-адам, переворачиваясь на другой бок, подумала: "Сравнил! Храп и пение Раушангуль!.."
Сабира-адам не вполне разделяла восторги мужа по поводу пения Иллахуновой, но некоторые ее песни не могли не волновать. Вот эта, например: "Слышишь, снова закуковали кукушки — одна в горах, другая в нашем саду…" Уже засыпая, она стала припоминать слова песни: "… закуковали… кукушки… одна в лесу… другая… в моем саду…" И подумала — будто закляла: "Хорошо бы, если не приснился самолет!.."
Сын Закира-аки долго лежал с открытыми глазами. Не утерпел, встал, вышел из спальной комнаты, тихонечко прикрыв за собой двери. Он надавил на включатель — вспыхнул мягкий желтоватый свет. На верстаке, будто пара вороных, стояли сапоги Пучеглазого. Сын Закира-аки взял сапог, оглядел его внимательно, пристрастно, затем принялся выбивать из него колодку — удар, еще, еще… Сапоги готовы — осталось испытать качество скрипучек. Сын Закира-аки натянул на ноги сапоги, прошелся взад-вперед, сдержанно радуясь замечательным звукам, заполнившим комнату:
— Г-г-г-р-р-р-и-и-к-к-и-и, г-г-г-р-р-р-и-и-к-к-и-и.
Тем временем Сабира-ача смотрела сон.
Медленно, очень медленно по пыльной проселочной дороге ползла телега. В упряжке — плюгавенький ишак, в телеге — свежевыкошенная трава — дикий клеверок, вкусно пахнущий горошек, ржа, овсюг… На возу, подобрав под себя охапку травы, лежит Сабира-адам. Нет, не Сабира-адам, а Сабира-девчонка, — сколько-то ей было тогда? Что-то около 16 лет! На Сабире-девчонке длинное платье из ситца. "Ах! Какой прекрасный сон! — думала во сне же Сабира-адам. — Травы какие! Какие запахи!"
А телега ползла все дальше и дальше, взбивая дорожную пыль. Возчик, значит тот, кто управлял телегой, сидел впереди спиной к ней, и невозможно было понять, кто он: разлюбезный супруг ее Тохтам — сын Закира-аки, или Адыл — сын Азиза-аки…
Не утерпела — окликнула:
— Послушайте, кто вы?
Возчик не обернулся.
— Тохтам, вы?
И снова молчание,
— Адыл?
И только теперь возчик обернулся и Сабира-адам узнала в нем сына Азиза-аки — тот, как и подобает интеллигентному человеку, был при галстуке поверх белой сорочки.
— Сабира, это вы? — удивился сын Азиза-аки. — Куда держите путь?
— Разве не видите — еду с вами.
— Вы знаете, куда еду я?
— Конечно. В рабфак.
— И вы туда же?
— Ну да, в рабфак.
— В рабфак! — засмеялся сын Азиза-аки. — В таком-то виде!
Сабира-адам увидела: в руках у нее оказалось ведро, в ведре — веник. Возчик протянул ей что-то: — Это волосы. Дарю вам. Берите, берите — они понадобятся вам…
А вот она стоит на краю макового поля, сзади кто-то гладит ее волосы. "Кто же это? Неужто Тохтам? — думает во сне Сабира-адам. — Но, может быть, Адыл — сын Азиза-аки?" Она обернулась, увидела — ну, конечно же! — разлюбезного супруга. Сын Закира-аки, посмеиваясь, говорил:
— Какие длинные волосы.
— Плохо или хорошо — длинные волосы?
— Плохо, плохо, — говорил муж, и голос его был полон печали.
— Почему?
— От них одна морока, да и урожая не будет.
— Что вы!
— Все об этом говорит: в будущем году ожидается засуха.
У мужа в руках оказались ножницы, он поднес их к ее волосам, сказал невозмутимо:
— Обрежу, пожалуй, иначе не быть урожаю.
— Нет! Не хочу! — будто бы закричала Сабира-адам, но уже не от того, что муж собирался обрезать ее замечательные косы — полоснуло сердце другое — сменялось видение, она увидела: пятеро ребят по трапу поднимались на борт самолета, среди них — сын Адылжан. Вот тогда-то она и закричала:
— Нет! Сыночки! Сынок! Назад!
И будто не кричала вовсе — горло было заклепано ужасом.
2
Сабира-адам проснулась рано, с первыми позывными местного радио. Рядом, блаженно посапывая, спал Тахтам. "Лег недавно, иначе, слонялся бы по двору, — подумала она о муже. — Дались ему эти сапоги Баратахуна". Она поставила на плиту чайник, на секунду-другую призадумалась, вспомнила сон. Телега о двух колесах — арба. Их, Исмаиловых, арба. На ней перед закатом выезжал отец в поле, в окрестности села, чтобы в сумерках возвратиться со свеженакошенной травой и с гостинцами для детворы — со стручками гороха или с корзиной-другой подсолнуха с лакомыми семечками; до сих пор на слуху отцовские приговорки: "…Это вам, лопоухенький… а это вам, красноглазенький, … вам, самому плаксивому… вам, самому смешливому вам, мышонку с шестью зубками, …вам, доченька…" Последней -Сабире-девчонке, старшей по возрасту, шестой по счету. Шесть горстей гороха, или шесть ломтей подсолнуха, или шесть монпансье, или шесть пряников — пятерым братьям Сабиры-девчонки и ей, Сабире-девчонке — еще и вилы в руки:"…помоги отцу, доченька…" А вот Сабира-девчонка на возу, ловко орудуя вилами, сбрасывает траву на землю, взгляд ее, нет-нет, да и приметит в траве красный горошек, синенький шалфей, желтенький клеверок… и ржу… и лебеду… и полынь с дурмяным запахом… Потом папенька навильничек-другой бросит стельной корове, годовалому бычку, остальное снесет в стожок — тот изо дня в день медленно раздается ввысь и вширь. Конечно же, папенька полон впечатлений — до сих пор у нее на слуху рассказ папеньки о встрече в поле с пучеглазым Баратжаном Сабыровым.
— Парень-хват этот сын Сабыра-аки, — говорил он восхищенно. Представьте, подстрелил горлинку, отдал трофей колхозным сторожам… братьям Копыловым… те ему отвалили за него полную телегу колхозной только что накошенной люцерны — еле бедная коняга тащила воз…
Сабире-девчонке в рассказе папеньки чудился намек: чем не жених парень? Однако пучеглазый Баратжан ни капельки не волновал девичье сердце, поэтому она, зардевшись, возразила:
— Но горлинка, папа, божья птаха, — как могла подняться рука на святое!
— Верно, горлинка птаха божья, — смутившись, не менее дочери, ответил папенька, — но жизнь сложна, в ней столько закавык, что порою трудно отличить святое от несвятого. Сколько-то было свято, казалось бы, а приглядишься, вникнешь — она изнутри начинена мерзостью и — наоборот… К чему клоню? Да, подстрелил, но то — по молодости, от незнания… излишней лихости…
Непосвященный, подслушав беседу отца с дочерью, не мог бы, наверное, предположить что-либо стоящее — ну, пустяк и пустяк! Но в том-то и дело, что обстояло гораздо серьезнее, что за видимой безоблачностью угадывались сполохи грозы, человек с внимательным слухом и зрением, вхожий в семейные тайны Исмаиловых, за пустячными размышлениями о подстреленной горлянке услышал бы, наверное, вот что:
— Баратжан! Да, пучеглазый, некрасив! И тем не менее лучшего жениха не сыскать не только в Ялпызе, но и во всей округе. Из богатой семьи, в хозяйстве две лошади, телега, две коровы, пара бычков… Без ветра в голове, настырен…умеет жить… Говорят, имеет виды на вас, доченька, — не оттолкните ненароком…
— Что богатство, папенька! Жить-то придется с человеком!..
Да, но что вещает арба? Травы — они отчего? К чему? А ишак? Такой-то невзрачный, плюгавенький? Ишак у Исмаиловых, помнится, был незаменимым в хозяйстве, особенно после того, как папенька продал по нужде великой единственную конягу, заодно с четырехколесной телегой. А каким горлопаном был их ишак!
Сабира-адам вспомнила Аимхан, сверстницу-ялпызчанку, подруженьку по женской суете и труду: Сабира Пазылова и Аимхан Усманова до самого выхода на пенсию бок о бок проработали на одной фабрике. Аимхан с дочерью и внуками жила в небольшом городке в Приозерье, Как-то подруги встретились и Аимхан, делясь новостями, будто спохватилась.
— Яй! Запамятовала! Привелось мне погостить у родни в Сергеевке, — сказала она, взглянув в глаза дорогой подруженьке, да так, что Сабире-адам стало не по себе от нехорошего предчувствия. — Сидели на тахте в бостане, балуясь чайком, — Аимхан сделала многозначительную паузу, — вдруг за дувалом завопил ишак — ну, не кошмар ли! Мне показалось, что вопил… ваш ишак.
Сабира-адам на секунду-другую оцепенела, но пришла в себя, умилилась: вот так всегда: сходу не отличить у Аимхан шутку от серьезного. Яснее ясного: старая плутовка, дабы потешить подругу, слукавила — как могла она слышать вопли ишака, если между означенной Сергеевкой и родным Ялпызом в Карповке, расстояние в девять километров — ни метром меньше и больше? И еще. Разве Аимхан не известно, что их ишак околел около сорока лет тому назад? Околел, не то чего-то объевшись, не то от старости. Подробности гибели ишака не истерлись в памяти — нет-нет, да и припомнятся голоса:
— Ваш ишак, Негмат-ака, извините… того, прощается с этим восхитительным миром.
— Что вы говорите!
— Говорю, что надо.
— Где?
— На глиняном карьере. Кстати, не затруднит ли вашего ишака небольшая просьба: пусть они передадут по прибытию в аллахово царство привет моему длинноухому горлопану — как-то им там живется? Небось, зазнались они на всем дармовом…
Сабира-адам прекрасно помнит подробности замечательного бега Исмаиловых к глиняному карьеру: впереди — папенька, за ним — Сабира-девчонка, за Сабирой-девчонкой — Лопоухенький, за Лопоухеньким — Красноглазенький, за Красноглазеньким — Самый Плаксивый, за Самым Плаксивым — Самый Смешливый, последней — маменька. Тут же состоялись похороны ишака, а папенька не то в шутку, не то всерьез говорил:
— Похоронили бы вас по-мусульмански, но вы не мусульманин, похоронили бы как христьянина, но вы, увы, не христьянин, и сжечь вас на костре, как принято у некоторых людей, не положено, потому что вы не человек. Вы — ишак, смерть ваша ишачья и закопаем вас как ишака с подобающими ишаку почестями…
Первым, кажется, заплакал, как ни странно, не Самый Плаксивый, а Красноглазенький — но, может быть, и не заплакал вовсе, а просто заслезились больные глаза. Потом заплакали остальные. Кроме папеньки, конечно. Отец, закопав животное, счёл нужным утешить лишь Самого Плаксивого, но только не потому, что тот плакал, а потому, что был самым маленьким и больше нуждался в утешении, внимании. Ах, каким был тогда Самый Плаксивый — умора и только! Все в семье Исмаиловых шло от него и к нему! До сих пор в памяти маменькино, обращенное ему, Самому Плаксивому: "Кто это у нас пукнул? Нет, не вы, моя радость — это пукнули лошадка. Вы у меня культурный, умненький — это лошадка повели себя гадко! Что привлекло внимание моей радости? Русская сказочка о репке? Ну-ка, найдите-ка на картиночке себя…"
— Говорите, ваш ишак околел, — не то полюбопытствовала, не то приняла к сведению Аимхан.
— Неужто забыли?
— Сорок лет назад, говорите? Вы уверены, что он не мог воскреснуть?
— Что вы! — вырвалось у Сабиры-адам, да так, что подруга Аимхан порывисто привлекла ее к себе, поцеловала, прижала к груди, сказала:
— Вы так простодушны, милочка, вы так легковерны, моя ласточка… Старая с потрепанными крылышками ласточка — не припомню другую, которая как вы заводилась бы из-за пустяка: что не скажи, берете близко к сердцу — отчего так, любезная дочь Негмата-аки?
В другое время, наверное, Сабира-адам стала бы припоминать иные, более отдалившиеся подробности прошлого, их, Сабиры-адам и Аимхан, прошлого, в котором было немало того, к чему хотелось возвращаться мыслью и душой, что-то из поры фабричной, однако сейчас, в это раннее утро, она была во власти переживаний из-за видений во сне и вспоминала только то, что имело отношение к удивительным .снам.
А волосы?
Волосы, как известно, вещают дорогу. Дорогу какую? Куда? Зачем? Почему? И разлюбезный супруг с ножницами в руках, пытающийся обрезать косы, не эти, подобные мышиному хвосту, а те, девичьи — приснится же такое! В жизни — наоборот: именно из-за него, мужа, она в молодости не поддалась напору глупой моды и не обрезала себе волосы. Помнятся, дважды или трижды сын Закира-аки как бы нечаянно заводил разговор о прическах. Неспроста — догадываясь о решении жены распрощаться с косами. Не догадаться, впрочем, было труднее, чем догадаться, потому что перед супругами стоял свеженький пример подобного рода превращений — та же Аимхан, которая рассталась с косами едва ли не в первый день жизни в городе.
— Какие косы привелось увидеть нынче! Похожие на ваши — любо смотреть. Подумалось: избыло, да не вымерло в людях человеческое, — сказал, помнится, муж тогда. А спустя денек-другой продолжал:— На кого похожа ваша подруга… Эта Аимхан! Что сделала с волосами! На кого стала похожа! Не то на щетку для побелки, не то на пучок облезлой морковки! Говорят, мужа ее призывают в армию — так ли? А мне кажется, сам он напросился. Знаете, почему? От срама сбежал!…
Намеки заставили призадуматься: велика была тяга к новой жизни, сильно желание следовать ее правилам, хотя не всегда и во всем понятным, но возможно ли впрячь в одну упряжку столь несхожие взгляды ее и мужа? Вышла она из затруднительного положения, помнится, с потрясающей ловкостью: по примеру дочери Федора она сложила косы венком на затылке и — косы как не было! Показала прическу мужу — мол, как? — тот, вспыхнув, бросился вон из комнаты, но пару недель спустя она, вернувшись с работы, увидела в комнате бельевой шкаф с зеркалом — надо было быть настоящей дурой, чтобы не почувствовать в поступке мужа затаенный, весьма приятный смысл: не собрался же в самом деле тот отрабатывать перед зеркалом свою замечательную походку!..
Дороги, не секрет, бывают разные — какую дорогу в видениях Сабиры-адам пытался обрубить муж?
И что означает его слова о засухе? Когда случилась засуха?
Помнится, за год не выпало ни крупинки снега, ни капельки дождя — земля потрескалась, обшелушилась, над полями стояла облаками пыль, сворачивались на глазах листочки на деревьях, будто застигнутые волею злой колдуньи врасплох, жухла до срока трава — все становилось желтым-желто. Земля, казалось, молила, требовала: воды! воды!.. Люди с кетменями устремлялись к головному арыку, к бестолковому мирабу — распределителю воды и тоже молили, требовали, отчаявшись, брали за грудки, ломали колхозную запруду.
Особенно трудно пришлось ялпызчанам: ведь Ялпыз с ее двумя улицами да тремя переулками, заселенными уйгурами, являла часть Карповки, большого русского села, и находилась на окраине — гнать сюда воду приходилось, отвоевывая ее по капельке-другой у неуступчивых односельчан.
Запомнилась засуха еще вот почему: в разгар ее на каникулы из Казани приехал Адыл — сын Азиза-аки Ошурахунов. Сабира-девочка с подругой Клавой, дочерью Федора, увидела сына Азиза-аки у моста через шоссе — здесь арык раздваивался. Перед глазами подруг-соседочек, озабоченных гоном воды в иссохшие огороды, предстала картина: сын Азиза-аки, закатив штанину выше колен, старательно мастерил запруду. Сабира-девчонка не успела подивиться неожиданной встрече, как подружка рванулась вперед и двумя-тремя взмахами кетменя разрушила запруду-загляденье. Дочь Федора работала, помнится, не только кетменем, но и язычком — он у нее был подобен крапиве и ножу одновременно.
— Значит, интеллигенции захотелось чужой водички?! Значит, вам — водичка, а нам, пригнавшим ее, — кукиш с маслом! У вас горит земля, а у нас, выходит, над огородами — обложные дожди — нет уж, извините! Напрасно намочили ноженьки — еще простудитесь!
От ударов кетменя разлетелись вокруг брызги воды: помнится, несколько капель илистой жижи ударили в лицо сына Азиза-аки; как ни в чем не бывало, обтерся он подолом замечательной футболки. Будь на месте сына Азиза-аки другой, конечно, поддержала бы подругу, непременно завелась бы и Сабира-девчонка: размахивала бы кетменем, уничтожая запруду-загляденье, нашла бы слова уколоть парня. А тут будто отнялся язык: стояла она, онемев от стыда и еще чего-то такого, от чего было хорошо и тревожно.
Сын Азиза-аки, как и подобает рабфаковцу, обучающемуся непостижимым обыкновенному разумению наукам в далеком сказочном городе Казани, держался с достоинством: был терпелив, снисходителен, немногословен.
— Некрасиво так вести себя девушкам, — сказал он, помнится, назидательно и, уходя, добавил грустно: — А комсомолкам вдвойне некрасиво, — и еще добавил коротко, обернувшись вдруг: — Стыдитесь!
Сабире-девчонке в Ялпызе привелось увидеть сына Азиза-аки еще дважды.
На каникулах, год спустя, тот провел потрясающую беседу на антирелигиозную тему. Прямо на улице, на лужайке перед колхозным амбаром. Собралось немало людей — все девчонки и парни. Правда, в компанию молодых шальным ветром занесло двух-трех зевак из старичья, в числе их — папеньку Сабиры-девчонки.
Сын Азиза-аки был во всем светлом — брюки, кепочка с пуговкой на макушке, парусиновые штиблеты, знакомая футболка с голубым воротником, тщательно отстиранная, потому что Сабира-девчонка как ни приглядывалась — не обнаружила на них даже следов илистой жижи — свидетельство недавней схватки за воду. Рабфаковец рассказывал уйму умных вещей, из уст его дождем сыпались незнакомые слова и выражения, наполненные, наверняка, глубоким смыслом, владел он ими непринужденно, легко, так, как это умеют делать девчата с окатышами во время игры в камешки. Много в выступлении рабфаковца она, девчонка с шестиклассным образованием, не поняла, но суть уразумела-таки: мусульманская религия несла народу зло, христианская — в неменьшей мере, вообще религии являли собой опиум для народов. Всех. Без исключения. И для уйгуров, обитавших в Ялпызе, в одном из закутков славной Карповки, и для киргизов, живших в Кучугуровке, окраине Карповки, и для русских, проживающих на остальной, большей части Карповки. И для черных, и для желтых, и для белых, и для, как говорят русские, буро-серо-малиновых, т.е. для всех людей на всем земном шаре.
Не обошлось без подковырок.
— Опиум плохо? — подначивал грамотея-рабфаковца пучеглазый Баратжан. — Отчего тогда на Побережье у нас в каждом колхозе, в каждой бригаде посевы опиумного мака? По десятку, сотне гектаров?
— Сынок, помогите нам, темным, разобраться, — не утерпел, помнится, вступил в разговор и папенька. — Ответьте: может ли человек заставить отступить засуху? — и не дождавшись ответа, продолжал:— Не знаю, как вам, ученому человеку, а мне кажется: да, может. Эти глаза видели, эти уши слышали, как однажды Данахан-матушка заставила отступить засуху — любопытно, не правда ли? Спросите, каким образом? Очень просто: прошли, значит, Данахан-матушка в огород, поднялись на бугорочек средь бобовой карты и попросила… засуху смилостивиться, отступить. Так и попросили они: сколько бед, — сказала она, — принесли вы людям в прошлом году — пора и остепениться, смилуйтесь, — сказала она, — над людьми… Я стоял неподалеку — все слышал и передаю как есть… Но почему рассказываю? Вот вы говорите, что нет бога, но тогда почему вскоре после просьбы матушки, моей свекрови и бабушки этой девчушки, — папенька, к ужасу, показал на нее, Сабиру-девчонку, — так вот, ответьте: если нет бога, то отчего затем пошли дожди — уладилось с водой?..
— А мы-то думали тогда, отчего вдруг такая благодать, Немат-ака, снизошла к нам! — подливал масло в огонь Пучеглазый. — Теперь-то прояснялось — то добро божьей милостью!
Сабира-девчонка ни капельки не сомневалась: история с Данахан-бабушкой выдумана с начала и до конца: папенька любил придумывать небылицы, да так, что в них порою верил и сам. Байка папеньки развеселила собрание. Смеялась и она, правда, неискренне, для отвода от себя внимания. Особенно усердствовал в подначках Пучеглазый — он предложил, помнится, обратиться к Данахан-бабушке, к незабвенной бабушке Данахан с тем, чтобы та попросила бога поселиться в Ялпызе и притом прямо на Караванной улице — это затем, чтобы поиски боженьки-спасителя впредь не были обременительными для ялпызчан. Сын Азиза-аки позволил себе улыбнуться шутке, но улыбка его была удивительной: вроде бы улыбнулся человек, но при этом сохранил на лице серьезность и строгость…
Тем же летом Сабира-девчонка встретила рабфаковца в книжном ларьке — тот стоял вполоборота к ней, сосредоточенно листая книгу. Сабира-девчонка попросила у продавщицы флакон чернил, спросила робко, тихо, вполголоса, однако сын Азиза-аки услышал, взглянул на нее. Ну, сколько длился этот взгляд? Секунду-другую — не больше, но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы всколыхнуть, заронить в душе девчонки маленькое пустячное зернышко надежды. Впрочем, может быть, и не надежды — чего-то такого, от чего становилось по-радостному тревожно. И невдомек была девичьей головке истина: от одного зернышка всход в один колосок — как-то было ему, этому колоску, выстоять в житейском поле с бурями, холодами и засухами?!…
Собрание на лужайке, перед колхозным амбаром и встреча в книжном магазине случились позже, а тогда они с Клавой — дочерью Федора сидели у разрушенной запруды, карауля воду и перемалывая подробности случившегося.
— Втюрилась! — смеялась дочь Федора над подругой. И еще повторила это не вполне понятное смешное слово. — Не слепая — вижу! В профессора втюрилась! Только напрасно — не ровня ты ему!…
Но почему приснился самолет?
На этом месте память вдруг оборвалась — Сабира-адам присела на табуретку, положила ладонь на грудь, сказала, хотя рядом никого не было:
— Цыпленок!
3
В какой части тела трудится сердце?
Спроси о том у Сабиры-адам, скажем, десять-двенадцать лет назад, не исключено, ответила бы та не сразу. Да и возможно ли ответить, если до того она, кажется, ни разу по-настоящему не ощутила свое сердце. Это потом, будто цыпленочек сквозь скорлупу, проклюнуло. Сабира-адам как-то подсчитала: действительно случилось это впервые двенадцать лет тому назад, в день провала сына Адылжана на вступительных экзаменах в университет на исторический факультет. Накануне, перед заключительным экзаменом, а предстояло сдавать историю — вроде бы ничто не предвещало беды: предыдущий экзамен сын одолел с хорошей арифметикой оценок. И конкурс перед последним экзаменом испарился: лишних душ насчитывалось не более пальцев на одной руке, казалось: только чудо могло отвернуть удачу. Но чудо состоялось-таки! Сын рассказывал: на билет он ответил полно — споткнулся на дополнительных вопросах. Экзаменатор попросил назвать даты некоторых исторических событий — Адылжан назвал год, месяц, а с днем случился конфуз; снова — вопрос в этом роде
— и снова сальто-мортале с неудачным приземлением. Тогда экзаменатор, солидный доцент, зыркнув в вопросник, попросил назвать состав участников важного собрания — Адылжан назвал два-три имени, тщетно пытаясь вспомнить остальные; снова — вопрос о составе, теперь уже другого собрания и опять нехороший кувырок в памяти. После первых двух вопросов сын распрощался с надеждой на высокую оценку, а после третьего и четвертого — тем более, а экзаменатор, посоветовавшись с другими экзаменаторами, взял и закатил двойку, определив сына в число неудачников. Адылжан винил, однако, во всем себя: не придал значения датам, именам, посчитал мелочью, забыв, что в науках не бывает мелочей. У Сабиры-адам, помнится, бушевало внутри недоброе против доцентов и недоцентов: не углядели за мелочью парня: ведь бредит историей, днями и ночами не расстается с книгами — сколько прочитано им, сколько исписано бумаги, тетрадей! И хотели ли углядеть? Правда, она остудила в себе кипяток обид, не стала выплескивать его при сыне и муже. Да и отчего выплескивать, если Адылжан старался не выглядеть жертвой.
— Я вызубрю даты с точностью до минуты и не только имена участников собрания — имена обслуги… секретарей, машинисток, до поваров включительно, — не то в шутку, не то всерьез делился планами Адылжан, и ничто не говорило об отчаянии его и подавленности.
Он был в думах о будущем: в грядущие осень, зиму, а также весну следующего года он поработает в общепите, в национальном кафе у Туглука Садырова, а в оставшуюся пару месяцев до вступительных экзаменов — на Побережье, у Дудника, раскопавшего на нижнем берегу, неподалеку от Барскаона Махмуда Кашгари, древнее поселение, не то город, не то крепость — нечто, изумившее ученых. С экспедицией Дудника — о нем она была наслышана много хорошего от сына — все ясно. Несколько удивило решение Адылжана поработать у Туглука Садырова: почему у Садырова, а скажем, не у Османа, тоже повара — ведь Осман обитает рядом, через дом — казалось, свистни — прибежит и, конечно же, не откажет в помощи? Адылжан успокоил мать: Туглук Садыров не чета Осману. Почему? Да потому что у него лучшее в городе собрание литературы об уйгурской старине, потому что Садыров лучший знаток творчества Юсуфа хас хаджи Баласагуни и научного наследия Махмуда Кашгари. И это не все. Туглук Садыров преуспел в тонкостях родного языка, только что в Алма-Ате издан сборник, второй по счету, его стихов, Адылжан сочинял стихи на русском языке, а надо было, чтобы на русском и родном. Суждения сына развеяли тревогу. Провал его на вступительных экзаменах уже не казался роковым, погибельным, она, помнится, тогда, слушая сына, подумала: Адылжан идет, не ведая того, по стопам Адыла — сына Азиза-аки из Ялпыза, того самого, в честь которого он был назван отцом. Да-да, имя сыну дал сам Тохтам, не догадываясь, что это имя и именно в честь Адыла желала, но не смела предложить и она, мать Адылжана. Помнится, завершая беседу, Адылжан прочитал матери свое новое стихотворение. Звучало стихотворение на русском языке, и Сабира-адам с ее грамотой поняла немногое: шлагбаум почему-то сыну виделся биллиардным кием, луна на кончике кия — биллиардным шаром, небо — биллиардным столом… Она слушала с раздвоенным чувством: к чему непонятные стихи? Но рядом — другое: сын — поэт, сочиняет стихи, понятные людям с солидным образованием!
— Стихи, наверное, сынок, хорошие, но только я не все поняла, — призналась она чистосердечно.
— И редактор говорит то же… Советует записаться в кружок, поучиться и лишь затем приниматься за стихи.
— А вы?
— Разве я против учебы? — улыбнулся Адылжан. — Но не идти же в кружок ради стихов…
Сабира-адам про себя удивилась: отчего не позаниматься в кружках? Помнится, на фабрике у них работало несколько кружков, помнится, ее тянуло на кружок по вязанию. И опять же не без влияния подруженьки Аимхан, дочери Усмана-аки. Но сложилось так: что дочь Усмана-аки занималась в означенном кружке, а она — нет, дочь Усмана-аки овладела второй профессией и нынче, выйдя на пенсию, в маленьком городке, в Приозерье, у дочери, обратила уменье в промысел — вязала теплые вещички, эти кофточки, шапочки да шарфики, прирабатывая копейку-другую к пенсии. Последуй тогда она примеру подруженьки, глядишь, и у нее послепенсионная жизнь сложилась бы иначе — не громыхала бы она по утрам и вечерам ведрами по коридорам, а сидела бы дома у тепла и прохлады и мастерила бы изделия из мохера — с заработками было бы не хуже, и покойнее чувствовала бы душа. Так отчего бы и не записаться в кружок?
На том беседа матери с сыном закончилась. Адылжан оставил мать и отца одних, вскоре прошагал мимо окна, а Сабира-адам, помнится, стала размышлять о случившемся, не очень-то одобряя гордыню сына: отчего, действительно, не записаться в кружок — глядишь, получился бы, набрался бы умения и со временем стал бы поэтом почище этого Туглука Садырова?
Минуту-другую спустя за окном, помнится, послышался скрип калитки. Адылжан, — подумала она, — в спешке забыл что-то дома…
Но то был не сын — в дверь постучали, и вскоре в ее проеме показалась пожилая женщина. Женщина извинилась, помявшись, сказала:
— Здравствуйте, я страховой агент — не желаете ли застраховаться?
Сабира-адам удивилась: какая сила пригнала сюда в выходной день, в воскресенье, страхового агента и отчего у нее в руках сумка, набитая чем-то тяжелым?
— Нет, не желаем, — ответила Сабира-адам.
— Подумайте хорошенько — не стану торопить… Посоветуйтесь с близкими, — она кивнула на сына Закира-аки, — тот на голос постороннего человека выглянул из соседней комнаты.
— Они, — Сабира-адам показала на женщину, — предлагают нам застраховаться.
— Зачем? — не то удивился, не то засомневался тот.
— Это выгодно, — молвила женщина, переминаясь с ноги на ногу. Сабира-адам, спохватившись, предложила присесть. Женщина опустилась на табуретку, добавила: — вам и государству.
Сабира-адам, конечно, слышала о страховании, но все вскользь да между прочим, серьезно с этим привелось столкнуться впервые. Из уст женщины — страхового агента — а та с каждой минутой обретала уверенность — она услышала уйму прелюбопытнейшего и, главное, полезнейшего. Поистине: живешь век, а не исключено, умрешь круглым простофилей. При непременном, правда, условии: если на твоем пути не встретятся такие люди, как вот эта женщина — страховой агент. Слава аллаху, Сабире-аче и ее разлюбезному супругу не грозила смерть дураками, потому что в их жизни встречи, подобные этой, случались.
Женщина-агент присела за стол, положила сумку с тяжелым у ног, а сумку полегче, с бумагами и другой мелочью — странно, Сабире-аче помнится, пришла в голову нелепая мысль, подумалось, что эта женщина пенсионного возраста в сумочке, не исключено, носила, как дочь Федора, губную помаду, щипочки, щеточки для чернения ресниц и подобную им чепуху, то, что Сабира-ача и в пору молодости стыдилась употреблять — так вот, женщина-агент положила сумочку на стол, извлекла из нее не помаду, не щипочки и не щеточки, а обыкновенную бумагу и ручку и собралась не прихорашиваться, а писать. Сначала она ввела в суть дела: страхующимся, т.е. супругам Пазыловым, предстоит заплатить жалкие копейки, ру6ль-другой от силы, за страховку, а случись беда, государство приходит тебе на помощь, возвращая. вместо копеек полновесные рубли, а вместо рублей — пачками червонцы, да с такой обязательностью возвращает, что человеку со страховкой становятся нипочем грядущие напасти. Женщина хотела бы начать работу со страхования имущества — супруги, обменявшись взглядами, согласились.
Говорят, со временем даже камень обрастает мхом. Трудно сказать насчет камня и мха, а вот то, что нормальная семья со временем обрастает имуществом — точно. Да, табуреточки, да, стульчики, да шкафчики — для кого-то может быть мелочь они, а для кого-то, кто вложил в эти табуреточки, стульчики и шкафчики трудовые копейки — частицы бытия? Да, коврики, да, ковры — огромный, во всю длину и ширину стены в гостиной, поменьше в спальной комнате, шкафы — старенький с зеркалом, вмонтированным в дверцы с внутренней стороны и новенький с иголочки, полированный, заграничный, радиола "Латвия" и еще немало имущества — вот таким нешутейным "мхом" успели обрасти за тридцать с небольшим лет они с Тохтамом, сыном Закира-аки Пазылова. Страшно подумать — все это в один недобрый миг от какой-то вражьей искорки могло воспламениться и превратиться в прах! Помнится, она, неловко скрывая удовольствие, называла предметы, подлежавшие страхованию, а после того, как женщина закончила оформление свидетельства, почувствовала похожее одновременно на растерянность и облегчение.
Женщина-страховой агент достала из сумочки еще листочек бумаги.
— С имуществом ясно, — сказала она весело. — Теперь застрахуемся сами.
— От чего?
— Правильно ставите вопрос, — похвалила женщина-агент. — Отвечаю. От несчастных случаев.
Затем она, заглядывая в бумагу, перечислила ужаснейшие напасти — отравления, ранения, переломы костей, ожоги, обморожения и много, много такого, от чего человек становится калекой; назвала она и такие напасти, из-за которых докторами удаляются различные части человеческого органа — глаза, например, легкие, почки, селезенки к даже желудок. Женщина-агент, называя напасти, то и дело жалеючи глядела в глаза хозяевам, словно пытаясь обнаружить у них по неким известным только ей приметам какую-либо из числа названных напастей. Супруги не перебивали, но держались так, как подобает держаться людям с отменным здоровьем, которым, по крайней мере, ближайшие пятьдесят лет ровным счетом ничего не угрожает, и когда женщина-агент, перечислив все, что можно перечислить из нехорошего, враждебного человеческому здоровью, со словами "вижу, не желаете застраховаться", замолкла, разлюбезный супруг, до сих пор кушавший в сторонке, сказал решительно:
— Не желаем.
— Это нам ни к чему, — поддержала мужа Сабира-адам.
— Зря, — произнесла, не скрывая разочарования, женщина-агент, и после небольшой паузы продолжала, но, казалось, уже о другом: — Вот ведь бывает и железо ломается. А человек — не железо, даже не дерево — человек,
— Человек есть человек, — неохотно поддакнул муж.
В один прекрасный момент — чик! — и нет человека. Рано или поздно с каждым из нас случится такое.
— Да разве смерть — момент прекрасный? — не то поинтересовалась, не то удивилась Сабира-адам, сбитая с толку речью женщины-страхового агента.
— Извините — оговорилась. Намотаешься за день по дворам, да квартирам чужим так, что черное начинает казаться белым, а белое — черным. Я вот о чем. Опять же страхование выгодно: помрет человек, извините, — женщина-агент смутилась, кажется, утеряв былую уверенность, — а родным и близким достанется страховка — нет худа без добра… Бывало… но не у нас, за границей… в капиталистических странах… бывало — нравы-то у них сами знаете какие нехорошие, — продолжала она, — бывало нарочно страхуются… Застрахуется, а потом сделает с собой пакость — и плати страховочку… Бывало, кончали с собой — это затем, чтобы страховочка досталась родным и близким… Но это не у нас — такое водится, повторяю в капиталистических странах, у нас, слава богу, нравы иные, у нас не станут лишать себя здоровья, тем более жизни из-за страховки…
— О чем они! — помнится, взорвался муж, но, правда, взорвался тихо и, не дожидаясь ответа, заковылял прочь, присел у окна на диван, названный в страховом свидетельстве Сабирой-адам едва ли не последним в списке по причине той, что был он, по понятиям ее, старомодным, пузатеньким, обшарпанным с неказистым буровато-сереньким матерчатым покрытием.
— А хозяин-то, вижу, не одобряет, нервничает, — сказала упавшим голосом женщина-агент, переминаясь, как в начале визита, с ноги на ногу.
— У них аллергия на грустные разговоры, — щегольнула словом Сабира-адам, вспомнив кстати одно из любимых выражений дочери Федора — у той, подобных этому, выражений и словечек было несколько, эта запомнилась потому, что из уст ее она как-то услышала: "Не учи, Сабира, у меня от твоих уроков аллергия!"
— Извините, я исходила исключительно из хороших намерений, я ничего плохого не сказала о наших нравах. Если что-то и сказала, так ведь — о них… о загранке, — молвила женщина-агент, сделала шаг к выходу, но спохватилась, поинтересовалась: — Да, вылетело из головы… Тараканы вас не беспокоят? Есть верное средство… микстурочка… могу предложить, — она показала на тяжелую сумку, — ношу с собой на всякий случай… Недорого, а людям польза…
— Не беспокоят, нет, — сказала, будто обрезала Сабира-адам.
— О чем они? — повторил вопрос муж после того, как остались они вдвоем.
— О тараканах, — сказала Сабира-адам, но, увидев в глазах мужа непонимание — откуда ему было знать о тараканах, если не водились те у них дома? Сабира-адам об этих неприятных насекомых часто слышала из уст подруг по цеху, живших в коммунальных квартирах, да и самой привелось видеть их в пору девичества, в бытность обитания в общежитии — так вот, тогда, помнится, увидев в глазах мужа непонимание, она посчитала необходимым чуточку просветить его.
— Съехала от страхования к тараканам! — засмеялся сын Закира-аки; выслушав короткую "лекцию" супруги о вредных насекомых, норовящих испортить ни за что — ни про что жизнь.
— Я-то гадала, ломала голову: что у ней в сумке? Оказывается, яд для травли тараканов! — смеялась и Сабира-адам.
— Может быть, следовало застраховаться?!
— А что? Следовало!
— Тараканы!
— Страховой агент!
Смеялись от души оба, потому что, честно говоря, было от чего смеяться.
Но — стоп.
Что-то у нее кольнуло в груди, потом еще, еще… Она присела тогда на пузатенький буровато-серенький диван с матерчатым покрытием, названный в страховом свидетельстве последним в списке имущества, положила ладонь на грудь, замерла.
— Что с вами? — полюбопытствовал, помнится, муж, вмиг посерьезнев.
— Да, вот… клюет… — ответила не сразу Сабира-адам.
— Что клюет? — прямо-таки распирало любопытство разлюбезного супруга.
Она выдержала долгую паузу, сказала тихо-тихо:
— Будто цыпленок…
— Вы сказали: "будто клюет цыпленок"?
— Такое ощущение: клюет и клюет, — ответила Сабира-адам, — будто просо клюет…
— Это сердце, — заключил тогда муж и затем, минуту-другую спустя, услышав на свой вопрос "все еще клюет"? утвердительное жены, поколебавшись, пришел к решению звать скорую помощь.
И, конечно, распотешил людей. Легко сказать "скорую помощь позвать" человеку без телефона под рукой. Сын Закира-аки рванул к соседям, окликнул через забор, на зов вышла соседка Таджихан-хотун и уже одно то, что в соседском доме никого, кроме медлительной бестолковой Таджихан-хотун по прозвищу "Черепаха" не оказалось, сулило потеху. Так и случилось. Черепаха минуту-другую выясняла, что это за цыпленок, так обеспокоивший соседей. Выяснив, еще минуту-другую Черепаха ахала: ведь только вчера она вот отсюда, из-за забора, приветствовала соседку и та была в полном здравии — захворал человек — с кем не бывает, ну, гриппик там, какая-нибудь простуда, а чтобы взяло сердце — такого ей, Черепахе, конечно, не могло и в голову придти — как странно и непознаваемо бытие!-. Потом и вовсе пошла потеха.
Выяснились две ужасно неприятные вещи: Черепаха — бывает же! — не могла позвонить по той причине, что была не в ладах с телефонной техникой. Сын Закира-аки умел обращаться с телефонным аппаратом, но не мог этого сделать по другой причине — не был в состоянии одолеть забор, разделявший дворы. Попасть во двор Черепахи было непросто — нужно было сделать крюк вокруг квартала. Неизвестно, чем бы закончилась потеха с телефоном, если бы разлюбезному супругу не пришла в голову счастливая мысль окликнуть на улице на подмогу незнакомого человека — такая вот незадача! Словом пока длилась вся эта кутерьма со звонком в скорую помощь, состояние Сабиры-адам улучшилось. Скорая застала больную на ногах — перестал беспокоить цыпленок: то ли надоело клевать, то ли насытился, то ли закончилось просо. Врачи, поколдовав над Сабирой-адам с помощью каких-то проволочек, шнурочков и аппаратов, похожих на радиоприемники, подтвердили догадку: да, перестал клевать и, действительно, оттого, что закончилось просо. Но — об этом "но" больной следовало постоянно помнить: цыпленок, затаившись до поры и времени, мог отныне в любой момент объявиться. Сабира-адам, по просьбе доктора, пожилой маленькой женщины с тихим и весьма уважительным голосом, назвавшейся Валентиной Густавовной Гусевой, рассказала о событиях, предшествовавших приступу: была беседа с сыном Адылжаном, она в начале беседы готова была разрыдаться, извините, от обиды и сознания собственного бессилия, но сдержала себя, затем печаль вдруг сменилась добрыми предчувствиями, но она старалась подавить и эти маленькие радости в себе, затем после визита страхового агента она смеялась — то, конечно, нехорошо, одно утешение: смеялась она вопреки желанию, без зла.
— Нет, миленькая, — сказала ей еле слышно, внимательно, даже очень внимательно выслушав, Валентина Густавовна Гусева, — дай Бог ей самой доброго здоровья! — как раз-то и хорошо, что рассмеялась.
Помнится, слова доктора несказанно удивили больную.
— Сдерживать в себе… — тут Валентина Густавовна Гусева назвала неслыханное досель иностранное слово, которое Сабира-адам, несмотря на прекрасную память, не запомнила, — …вредно для сердца.
— Значит, извините за вопрос, — обратилась Сабира-адам, удивившись еще пуще, — если хочешь плакать, надо плакать?
— Значит, да, миленькая.
— Захочется смеяться — смеяться?
— Обязательно, — сказала Валентина Густавовна Гусева, — сердцу покойнее, когда человек ведет себя естественно.
Валентина Густавовна Гусева выписала лекарства, велела в ближайшее же время показаться своему врачу, встать на учет; она дала еще массу весьма умных советов. Сабира-адам советы эти и пожелания крепко зарубила в памяти, хотя не просто было им следовать. Вот этот совет, к примеру: во время приступа сердца не паниковать, постараться сохранить спокойствие и думать, естественно, приняв веред этим лекарство, только о хорошем. С пилюлями ясно, а вот, чтобы заставить себя думать только о приятном… — тут частенько образуется наоборот: пытаешься в памяти вернуть доброе, а в голову, не спрашиваясь, нахально лезет разное, отчего ущербно не только сердцу, но еще и душе, от чего отмахнуться не так легко. Или этот совет: не сдерживать в себе эти… — слово иностранное, начинавшееся, кажется, с буквы "э" или "и" — бывает порою хочется рассмеяться, а рядом люди с постными или серьезными лицами — замечательный шанс на старости лет прослыть дурочкой. Или всем весело, а тебе хочется разрыдаться, отчего тоже шанс испортить людям настроение…
Доктора отбыли. Супруги Пазыловы, Сабира — дочь Негмата-аки и Тохтам — сын Закира-аки, минуту-другую сидели молча.
Первым зазудило сына Закира-аки — тот сказал:
— Ну и как вам сейчас? Перестал клевать цыпленок просо?
С тех пор повелось во время непорядков с сердцем: цыпленок, да цыпленок… Кажется, к цыпленку стали привыкать, но каждый раз его появление вызывало переполох.
4
Сабира-адам поставила на плиту чайник, прошла в гостиную, извлекла из шкафа семейный альбом с фотографиями; из альбома — старую порыжевшую семейную фотографию, запечатлевшую Исмаиловых в полном составе. Вернулась на кухню, выпустила собачку на улицу — та так жалостливо просилась, что не уважить просьбу она была не в силах — прошла на цыпочках в спальню — разлюбезный супруг спал, да так блаженно, что, казалось, сейчас он во сне по меньшей мере восседал в одной компании с любимыми Раушангуль Иллахуновой и Ахмедом Шамиевым* — не исключено, что те поочередно пели ему — Раушангуль песню о кукушечках, а Ахмед Шамиев что-нибудь из "Анархана"**. На лице разлюбезного супруга было написано: да, смотрит сон, к тому же преотличный сон. Потом пришла и вовсе глупая мысль: прожила она с мужем около сорока лет, но не припомнится ни одного случая, чтобы тот рассказывал о снах. А ведь снятся же они ему, не раз приходилось слышать, как во сне он с кем-то разговаривал — не с самим же собой?
(*Раушангуль Иллахунова и Ахмед Шамиев — артисты уйгурского театра в Алма-Ате)
(** "Анархан" — народная драма)
С часиками в руках она вернулась на кухню, а затем, глядя на порыжевшую фотографию, стала думать почему-то о другом — о песнях Раушангуль Иллахуновой и Ахмеда Шамиева. Впрочем, о кукушечках — вскользь, больше о песнях Ахмеда Шамиева, даже не о песнях Ахмеда Шамиева вообще — об одной его песне из спектакля "Анархан". И даже не песне, а о героине песни, об Анархан, женщине с удивительной судьбой. Мысли вдруг перекинулись к другой легендарной женщине — Назыгум*. А потом — к сыну Адылжану и его другу Рахимжану. Постепенно они, мысли, точь-в-точь кирпичики под рукой каменщика, выстраивались в целое: Рахимжан, художник, друг сына, написал картину о Назыгум, копию картины подарил сыну — картина с тех пор висела в гостиной. Сабира-адам только — что видела картину и, может быть, оттого перекинулся мосток от Анархан к Назыгум: сын Адылжан с художником вели беседу о картине. Адылжан спрашивал — Рахимжан отвечал, не все в картине нравилось Адылжану — Рахимжан же отстаивал картину. Назыгум была изображена в рост в наручниках — казалось ее, недавно покончившую нелюбимого мужа, жестокого иноземного правителя, и пытавшуюся укрыться в камышах, только-что заковали в цепи. Рядом с Назыгум Рахимжан изобразил два тростника, сломанный и целехонький — вот это-то, насколько могла уразуметь Сабира-адам, вызвало недоумение сына: отчего такое соседство? Не намек ли это на хрупкость характера Назыгум? Адылжан огорчился — Рахимжан посмеивался и вроде бы соглашался и не соглашался — дети и дети! Адылжан горячился: разве может женщина с хрупким характером совершить подвиг? И какой! Рахимжан в ответ лукаво посмеивался, и снова вроде бы соглашаясь и не соглашаясь. Такая уж манера была у него: не скажет "да" или "нет", а только улыбнется и в улыбке той "да" и "нет", вроде льдинок в теплой водичке: не успеешь разглядеть, а они уже растаяли, утеряли мигом черты. Помнится, ребята попросили ее, Сабиру-адам, рассудить спор — она, в это время утюжа белье, незаметно прислушивалась к разговору парней — полюбопытствовали, показали на картину: нравится или нет?
(*Назыгум — легендарная женщина-уйгурка)
— Нравится, — ответила коротко Сабира-адам. — Хорошая картина.
— Что именно? — допытывался сын.
— Назыгум как живая. Глядишь на нее и пробирает душу жалость, — сказала Сабира-адам.
— Маменька сказала "жалость", — сказал тогда другу Адылжан. — Так и есть — жалость! А надо, чтобы человек, глядя на нее, ощутил гордость.
Сабире-адам действительно было жаль эту женщину с печальными глазами. Она пыталась мысленно поставить себя на ее место, но сделать это было не просто. Прикончить ненавистного человека — от одной мысли о таком ей становилось не по себе. Не смогла бы она выдержать и другие испытания, выпавшие на долю Назыгум: конечно, не смогла бы усидеть и часа в тростниковом болоте — наверняка сошла бы с ума от взгляда какой-нибудь болотной твари. Словом, в заумном споре сына с художником ей трудно было принять сторону одного из них безоговорочно. Помнится, после ухода Рахимжана, разговор о картине продолжился. Начала его она, бросив как бы машинально:
— А что, сынок, пожалеть человека так уж и нехорошо? Адылжан удивился, но, наверное, догадавшись о сути вопроса, сказал задумчиво:
— Я не говорил этого, маменька. Я сказал: лучше бы, если картина вызывала у людей чувство гордости.
— Не поняла, — искренне призналась она.
— Назыгум — необыкновенная женщина — мы должны не жалеть, а гордиться ее поступком. Она достойна, маменька, более высоких чувств.
— А что, чувства могут быть высокими и невысокими?
Помнится, вопрос привел сына в смятение, да такое, что Сабира-адам подумала об Адылжане: все у него наружу, хотя бы немного, самую малость, научился ловчить, изворачиваться — ведь жизнь-то какая: то стужа, то жара, то безветрие, а то и бури — нельзя же в одной одежонке в любую погоду? И Рахимжан вроде на виду. Но улыбчивее, ровнее и. главное, гибче — может быть, у него всегда лад в жизни? И говорят о нем, пишут. Постоянно на слуху и виду у людей.
Потом Адылжан как бы очнулся, поцеловал ее в щеку — такая у него с детских лет манера выражать восторги — так вот, чмокнул ее в щечку, молвил:
— Хорошо, подступим с другой стороны. Кем я довожусь вам, маменька?
Будто оглушило ее, но затем, увидев на лице сына лукавую улыбку, она успокоилась:
— Вы о чем, сынок? Если шутите, то шутка ваша, должна заметить, не очень удачна.
— Не шучу, маменька.
— Вы были, насколько мне помнится, моим сыном со дня вашего рождения — вы полагаете иное?
— Не злитесь. О том, что я ваш сын, я догадывался и раньше этого.
— То-то любили пошалить в материнской утробе.
— Считаете ли удачливым своего сына? Меня то есть? — помнится, продолжал сын. — Это игра, маменька, в вопросы и ответы.
Язык не поворачивался назвать Адылжана удачливым! Человеку за тридцать, разведен, живет бобылем в однокомнатной тесной квартире, дела с диссертацией в тумане. Правда, увлечен поэзией, настойчиво собирает материал для исторического романа об Юсуфе из Баласагуна и Махмуде, он и поступил-то на исторический факультет из-за мечты о романе, и окончил-то факультет, затем одолел аспирантуру из-за романа, и диссертацию забросил из-за призрачного романа — когда-то он соберет материал и напишет роман? Да и удастся ли написать? И отчего все словно помешались на этих Махмуде Кашгари и Юсуфе из Баласагуна? Едва ли не каждый, мало-мальски владеющий пером, мечтает написать непременно роман либо о Махмуде, либо о Юсуфе — отчего? Неужто нет других тем? Таких, к примеру, как в индийских фильмах — сколько-то в них человеческого — и насмеешься вдоволь и наплачешься от души?.. Сабира-адам в недельку раз, от силы дважды, навешала холостяцкую квартиру сына и всегда возвращалась с камнем в сердце: всего-то богатства у сына — книги в стареньком шкафу, на подоконнике, голом полу — ничего кроме книг не нажил? Кровать, две пары костюмов, две пары штиблетов, пальтишко, плащ, шапка и, конечно, уйма галстуков — вот и все богатство? Будто назвали его в честь Адыла в насмешку: Адыл — сын Азиза-аки, как стало известно недавно, был в возрасте сына женат, имел солидную должность, дачу. Адыл, сын Азиза-аки, был женат на ученой, как и он сам, женщине — что и говорить, не семья — загляденье? А сын? Сколько стоящих девчонок-невест вокруг — казалось, предложи руку и сердце — не то чтобы согласятся — прибегут с радостью! А Адылжан прошел мимо своего счастья — женился, не испросив родительского благословления, на… бабочке! На балерине то есть! Да, вот так, сломя голову, полетел Адылжан за расфуфыренной бабочкой. Сабира-адам с сыном Закира-аки за глаза невестку так и называли — Бабочка. Вспоминая сына с Бабочкой, Сабира-адам краснеет, машинально порою оглядывается — не подглядывает ли нехороший глаз за позором семьи? Не хочется вспоминать, но каждый раз, когда она вольно или невольно думает о сыне, в голову приходят нехорошие картинки из семейной жизни Адылжана с Бабочкой, если этот ад можно назвать семейной жизнью. Вот привычная картиночка из этой "семейной жизни": Адылжан готовит обед, а его распрекраснейшая супруженька, стоя на голове, под музыку что-то невероятное выделывает ногами в воздухе. Сабира-адам, увидев впервые эту картиночку, готова была раствориться и облачком улететь подальше от людских глаз.
Еще картиночка. Даже не картиночка — полновесная картина. Случилось то в городской бане… Выбежали из парной незнакомые бабенки, хохоча чему-то. Сабира-адам, конечно, поинтересовалась.
— Зайдите в парную — такое диво предстанет перед вашими очами — только не упадите со страху! — смеются бабенки.
Так и вышло: пошла в парную, осмотрелась — действительно на полке сидело диво: волосы до плеч, в шерстяной из мохера кофте, в шапке-малахае — баба — небаба, человек — нечеловек, ведьма — неведьма. Спасибо предупредили бабенки — и в самом деле можно было окочуриться по великому непонятию. Помнится, хотелось Сабире-адам полюбопытствовать, но вышло нехорошо.
— Что выпятила глаза? — молвило диво женским голосом и до того знакомым, что ей в первые секунды показалось, что происходит это в плохом сне. — Не узнала, что ли, старая?
— Кто вы, гражданочка? — вкрадчиво пропела Сабира-адам.
— "Кто вы, гражданочка?" — засмеялось диво. — Гражданочка эта твоя сноха, старая.
— Е! — удивилась, узнав наконец-то распрекраснейшую Бабочку, Сабира-адам, — На кого вы похожи!
— А что, не понравился мой костюм? — парировала Бабочка, обратившись из дива в разобиженную кошечку. — Очень даже хороший костюм, для сгонки веса самый раз. Закормил Адылжан лагманами и пирожными, а мне нужно вот что, — она встала на полку, откинула ножку назад, руки вскинула вверх и в сторону, изобразив не то птицу, не то и в самом деле бабочку в полете. Потом присела на полку, сказала вдруг. — Осточертело! Все! Адылжан! Ты, старая! Хромой свекор — все!..
Сабира-адам, опомнившись, бросилась вон из парной… Мелочи? Да. Глупости? Конечно. Смешно? Еще как. Однако Сабире-адам тогда было не до смеха. Она после этой картиночки, вернее, картины в парной городской бани, всю ночь плакала, кляня Бабочку, заодно сына, себя, плакала она, как во время просмотра индийского фильма. Правда, вскоре Адылжан и Бабочка расстались, навсегда. Сын остался в крохотной квартирке один. Бабочка вышла замуж за очень солидного мужчину, который ради нее без раздумий бросил семью с детьми, а может быть, даже и внуками. Но уход Бабочки не принес облегчения, сын на корню отметал разговоры с советами и намеками о женитьбе. Адылжан, почти во всем делившийся с матерью, старался не посвящать ее в сердечные тайны — мучилась она от сознания беспомощности в постижении этих тайн: отчего тот предпочел остаться бобылем? По-прежнему любит Бабочку? Или, натерпевшись, избегает риска? Да, не назовешь его фартовым, но какая мать наберется духу и скажет о том вслух сыну? Какая мать откажется от, пусть небольшой, искорки надежды на перемены к лучшему? Сколько-то от той искорки тепла?! Градус, а может быть и того меньше? Такая малость — пустячок эта искорка, а для матери в ней — начало огня. Сабира-адам действительно считала сына невезучим, но из-за чего-то, не вполне ясного даже ей, на вопрос сына ответила иначе.
— Мой сын не хуже других, — сказала она.
— Пожалуйста, откровеннее.
— Говорю откровенно — всю жизнь не любила лукавить, — сказала она, тем не менее, слукавив.
Адылжан понимающе и виновато улыбнулся.
— Смотрите, — он извлек зеленую папку, — вам, конечно, знакома эта папка.
— Ваши стихи.
— А вот, — Адылжан показал другую папку.
Сабира-адам замялась: эту папку она видела впервые.
— Отзывы, — сказал сын. — Восемь отрицательных отзывов.
— Почему об этом говорите мне? — сказала она печально. Адылжан, казалось, будто этого и ждал.
— Вас коробит! Вам меня жаль! Это, маменька, то, что я называю жалостью! А теперь представьте: все наоборот: вашего сына печатают, читают, о нем говорят — что бы вы испытали, маменька, в этом случае? Молчите? — говорил он горячо. — Вы бы, маменька, гордились сыном, не правда ли? — и добавил:— Ненавижу жалость! Жалеют слабых — гордятся сильными!..
Вот как завела далеко картина с поломанным тростником!
Такие страсти из-за пустяка!
А как он налетел на Пучеглазого — этого Баратахуна — сына Сабыра-аки из-за какого-то слова!
…Сидели за достарханом четверо мужчин — разлюбезный супруг, Адылжан, званые гости, этот Пучеглазый и друг семьи Касым Рузиев — пятая, в сторонке, потчуя мужчин — Сабира-адам. Говорили о разном. Пучеглазый рассказывал смешные истории, слушали в паузах мукамы — словом, ничего особенного, ужин, казалось, благополучно катился к концу, и когда до ухода гостей остались какие-то считанные минуты, Баратахун и произнес слова, взорвавшие праздничную обстановку. Он сказал, а потом, словно смакуя, повторил что-то, из чего врезались в память три слова — эти "наш бедный народ". Адылжан заволновался, а Сабиру-адам кольнуло предчувствие нехорошего.
— Наш народ не нуждается в сочувствии! Особенно таких… — сказал он, вскочив на ноги.
— Особенно каких, сынок? Договаривайте, — в голосе Пучеглазого послышалась неприкрытая обида.
— Как вы, Баратахун-ака!
— Хотелось бы знать, почему?
Тут бы уступить сыну — ведь Пучеглазый не ровня ему по возрасту, да и как-никак гость в доме, тут бы ему смягчиться, а, может быть, и попросить даже прощения за несдержанность, но происшедшее затем будто посмеялось над благими ее надеждами.
— Ни к чему вам беспокоиться о благополучии народа, — не унимался Адылжан.
— Извольте подсказать, о чем же нам, неграмотным, беспокоиться? — не остался в долгу Пучеглазый.
— Да все о том же, что беспокоит вас всегда.
— Не откажите в любезности — назовите.
— О благополучии своего брюха, собственной мошне! — выпалил, к ужасу сидящих за достарханом, сын.
Впрочем, кажется, к ужасу не всех. Касым Рузиев — сын Каюма-аки сидел, опустив голову, что-то соображая, и не видно было, что он разделял неудовольствие Пучеглазого, или держал сторону сына. Поступок Адылжана глубоко опечалил родителей. Сабира-адам и сын Закира-аки, каждый по-своему, старались смягчить скандал, остудить, насколько было возможно, гнев вконец разобиженного гостя. Разлюбезный супруг — такого с ним не случалось! — указал сыну на дверь, а она попросила извинение за сына и заодно за себя и мужа. Не исключено, что именно ей удалось успокоить Пучеглазого, потому что после ее "вы уж не держите на сердце зла на него — сорвался по молодости парень…" — тот снова, хотя теперь машинально, принялся за лагман, задумался и на его лице, помимо прочего, внимательно присмотревшись, можно было заметить нечто, смахивавшее — нет, не на прощение! Сын Сабыра-аки не из тех, кто легко прощает! — на сострадание. Сострадание к хозяевам, вынужденным терпеть выходки сумасшедшего отпрыска-неудачника.
— Удивительные пошли времена! — говорил Пучеглазый потом, прощаясь, — он только что надел поверх мягких сапог калоши, облачился в роскошный макинтош серого цвета, так сказать, всем макинтошам макинтош — в таких разъезжает в белых "Волгах" большое начальство — напялил на голову не менее роскошную шляпу, стал похож н в самом деле на лепешечного короля (может быть, именно таким увидела его некогда на рынке дочь Федора и дала это странное прозвище — “лепешечный король”) — так вот, прощаясь, лепешечный король, он же Пучеглазый, он же Баратахун — сын Сабыра-аки продолжал: — Не припомню такое, чтобы в нормальной уйгурской семье молодой человек, ну, пацаненок с молоком на губах, — "пацаненок с молоком на губах" он произнес на русском языке, жалостливо, по-карповски, — оскорблял почтенного гостя, учил жить…
А ведь прав был Пучеглазый: и она, Сабира-адам, не припомнит случая перепалки молодого человека с гостем у себя дома. Но может быть это не оттого, что нынче время иное? Вон у того же Пучеглазого сыновья разве не пример обратного? Трое парней и все будто из нитей одного кокона, крепкие, послушные, вежливые со старшими, о том, чтобы сорваться, подобно Адылжану, боже упаси! А росли-то как: с грехом пополам закончили восьмилетки, потом курсы-шоферов — и на том вся наука! Отродясь не брали в руки книг. Впрочем, каждый из них одолел по книге. Вернее, книгу — руководство по присмотру за автомобилем. Невозможно припомнить кого-то из них с книгой в руках, а вот орудующим у прилавков (один из них работал продавцом), или не менее ловко владеющими баранкой автомобиля (на семью Пучеглазого приходилось два "Москвича") — пожалуйста. Ее Адылжан в сравнении с тихими, очень вежливыми, но ловкими парнями того же Пучеглазого выглядел, прямо скажем, невзрачным — отчего? Уж не оттого ли, что, гоняясь за знаниями, за наукой, книгами, упустил главное — благополучие материальное? Одними знаниями сыт не будешь. Будь он таким, как сыновья Пучеглазого, глядишь, многое образовалось бы иначе: был бы свой дом, не исключено, разъезжал бы на своей машине и незачем было бы Бабочке упархивать в поисках лучших радостей. И с нервами было бы поспокойнее, и срывов таких, как этот, не знала бы семья. Может быть прав Пучеглазый, он же лепешечный король, он же Баратахун — сын Сабыра-аки, утверждая, что правду надо искать в желудке. Подумать только — в желудке! Ищущим правду таким образом не до книг. Ищущим правду в книгах, не миновать резей в желудке. Что лучше — первое или второе?..
Сабира-адам глядела на старую фотографию, а видела перед глазами Адылжана, думы об Адылжане не оставляли ее в покое вот уже неделю, с того самого вечера, когда тот беспричинно отстегал Пучеглазого — то были думы, настоенные на тревоге: что станет с ним? Куда выведут парня его увлечения — на ровную дорогу, или к пропасти?.. Тут-то и кольнуло в сердце.
Впрочем, нет.
До того произошло еще что-то.
Ах, вот что: за окном подал голос Пстак — Сабира-адам на минутку отвлеклась от размышлений о сыне — мысль перекинулась на другое, подумалось о собачьей тайне во дворе: отчего залаял Пстак? Облаял прохожего? Или порадовался чему-то, понятному только ему? Вот так: выскочил за порог, справил нужду, а затем, спохватившись, выразил радость чему-то, понятному только ему, Пстаку? Может быть, этим "чему-то" оказался изрядно состарившийся листочек тополя? Может быть, ветерок, прокатившийся волчком-шалунишкой у ног, точь-в-точь сам Пстак, любивший погоняться за своим хвостом? Или горлинка, перелетевшая с дерева на дерево, ближе к кормушке, сколоченной разлюбезным супругом — любителем пения горлинок?..
— Е! — она взглянула в окно: на земле, на крыше сарайчика лежал снег. Сабира-адам выбежала, впустила собаку — как же она перед этим не обратила внимание на снег? — вернулась на кухню и, когда это началось — кольнуло в груди, еще, еще, — и сказала она тогда цыпленку:
— Отчего, миленький, такое нетерпение?
5
Фотография старенькая, порыжевшая, обглоданная по краям временем, запечатлела, действительно, семью Исмаиловых в полном составе. Сабира-адам дорожила фотографией, хранила ее в специальном конверте, подклееном в альбом — к ней тянуло, причем с каждым годом все сильнее и сильнее. Может быть, это оттого, что людей, кто бы он ни был, с возрастом тянет к невозвратному прошлому — такой, знаете ли, сладкий обман: взглянул на фотографию и словно посетил свою молодость? Но, может быть, оттого, что после ухода на пенсию появилось свободное время, и она брала в руки альбом, извлекала из него фотографию из желания заполнить паузы между заботами по дому. Правда, Сабира-адам никогда не задумывалась о возрастающей в душе тяге к прошлому — спроси о том ее, вряд ли ответила бы. Кто может ответить, к примеру, отчего человек, любивший ходить по южному, скажем, тротуару улицы, на закате жизни изменил привычке и отныне его чаще могли встретить на — да, да! — противоположной стороне улицы? Отчего не южная, а северная сторона? Потому — что старым костям нужно больше тепла, солнца? Или отчего-то другого? Не задумывалась Сабира-адам о причинах тяги к прошлому, но однажды встревожилась, фотография, в единственном числе, сохранившаяся в семье, обветшала, да так, казалось, что одно неосторожное движение равнодушной руки — и разлететься ей прахом — фотография исчезнет, а с нею вместе и самое дорогое, что было у нее, что не хватает ей сейчас, что нужно ее родне. Самому Плаксивому, его детям, Адылжану — ведь должна же когда-нибудь полоса невезения у ее сына закончиться, не сошелся же свет клином на Бабочке, не оставаться же ему до скончания дней своих бобылем? Бездетным? Видано ли, чтобы дерево со здоровыми корнями осталось без ветвей?
Сабира-адам рассказала о бедах с семейной фотографией Касыму Рузиеву — сыну Каюма-аки, обратилась к нему потому, что тот был фотограф, жил неподалеку, в двух кварталах от них, Пазыловых — с ним Пазыловы общались семьями — это, во-первых, во-вторых и в-третьих. В-четвертых, Сабира-адам и сын Каюма-аки работали в одной организации. Сабира-адам техничкой, а сын Каюма-акн лаборантом-фотографом.
Комнатка, в которой работал сын Каюма-аки, располагалась в конце коридора, рядом с комнатой 27, закрепленной за нею, комнатой 87. Здесь же располагались шесть комнат: кроме огромной, словно волейбольная площадка, 17, четыре поменьше и еще одна из двух спаренных комнат, принадлежавших начальству. Сабира-адам как-то, закончив уборку комнаты 27, вышла в коридор — тут ее взгляд остановился на табличке с дощечкой "фотолаборатория" — удивилась: как же она запамятовала о сыне Каюма-аки? Продумать столько ночей, перебрать в памяти, казалось, сотни вариантов спасения дорогой фотографии и не подумать при этом о сыне Каюма-аки, не сообразить, что помощь буквально рядом! Она постучалась, потому что под этим "фотолаборатория" висел листочек бумаги с просьбой не входить без стука — вошла и, волнуясь, выложила фотографу все о фотографии — тот, внимательно выслушав, конечно же предложил свою помощь…
С Рузиевыми Пазыловы сошлись случайно — дай бог, не ошибиться! — одиннадцать лет тому назад, едва ли не на следующий день за тем, как тот с семьей поселился в коммунальную квартиру неподалеку, в квартале от дома Черепахи.
Как-то в доме Пазыловых появился мужчина примерно одних лет с Сабирой-адам, может быть, чуточку моложе (позже выяснилось: моложе на пять лет). Под мышкой мужчина держал сверток, а разворачивая сверток помнится, так смутился, что Сабира-адам, догадавшись, что тот стесняется из-за содержимого свертка, оставила мужчин одних. В свертке оказались старенькие туфли с дырявой подошвой. С того и началось. Разлюбезный супруг и она, установив, что мужчина сын Каюма-аки, выходец из Ялпыза, искренно обрадовались. Не менее, кажется, был рад тому и мужчина со свертком и поэтому вскоре Пазыловы о нем знали гораздо больше того, что следовало знать об обыкновенном клиенте.
Сын Каюма-аки трудился в одном крупном учреждении, где весьма ученые товарищи занимались изучением истории родного края: рылись в земных слоях, выискивая следы обитания людей в прошлом, писали умные книги, делали доклады на весьма представительных собраниях в стране и даже за ее пределами, словом, занимались тем, чем должны заниматься ученые люди. Помнится, Пазыловых в рассказе сына Каюма-аки поразили не суждения его о достижениях ученых — не догадывался сын Каюма-аки, что Пазыловых — а Сабира-адам, дождавшись конца делового разговора по поводу ремонта туфлей с дырявой подошвой, незаметно, как-то даже для самой себя незаметно, присоединилась к беседе мужа с клиентом — так вот, не догадывался тогда сын Каюма-аки, что хозяев, хромого обувщика-ремонтника и его жену, немногословную работницу швейной фабрики, в его рассказе взволнует нечто сказанное вскользь об одном из шефов его по работе в Учреждении. Но, простите, возможно ли было оставаться спокойным, если фамилия шефа была О-ШУ-РА-ХУ-НОВ, т.е. Ошурахунов!
— Говорите, Ошурахунов? Если не трудно, назовите имя, — не удержалась Сабира-адам.
— Уж не Адыл ли? — присоединился к просьбе муж.
— Именно так их зовут — Ошурахунов Адыл, — сказал клиент.
— Сын Азиза-аки, — сказал, утвердившись в догадке, муж.
— Ошурахунов Адыл Азизович, — сказал клиент, не то поправив, не то вложив в эти "Адыл Азизович" что-то другое, известное только ему, сотруднику Учреждения.
— Наш ялпызчаннн, — сказал со сдержанной торжественностью муж.
— Они, — Сабира-адам кивнула на мужа, — были приятелями.
Это со слов мужа, он был приятелем Ошурахунова, сына Азиза-аки, хотя в действительности — а Сабира-адам не в одну прекрасную ночь свалилась с луны без памяти об Ялпызе и без памяти об их, Пазыловых и сына Азиза-аки, молодости, — так вот, в действительности муж и сын Азиза-аки не были приятелями, — просто муж, называя того приятелем, выдавал истинное за желаемое. Тохтам — сын Закира-али приятель Ошурахунова? Держите! Тщательно перебрав в памяти прошлое, Сабира-адам не без труда отыскала парочку крохотных картиночек, запечатлевших мужа и ученого ялпызчанина вместе. Вот одна из картиночек: сын Азиза-аки, юноша, учащийся средней школы — ну, конечно же, с книгой под мышкой! — мирно беседует с юношей Тохтамом, учащимся этой же школы. Но, может быть, беседа ребят была не из тех, что принято называть мирными. Внимательно приглядевшись, Сабира-адам увидела на этой картиночке, у хромого юноши Тохтама в руках дымящуюся цыгарку — не исключено, что юноша Адыл выговаривал тому за курение. Смешно: Тохтам — юноша тогда учился четырем вещам: ремеслу обувщика, курению, умению выпивать, игре на гармошке. Слава богу, не пристрастился к алкоголю и не научился играть на гармошке — не хватило талантов и, слава богу, что не хватило! А вот еще одна картиночка, запечатлевшая земляков вместе: Тохтам-парень внимательно слушает речь Адыла-рабфаковца. До сих пор на слуху вопрос рабфаковца: "Что вам не понятно, Пазылов? Бога нет — и точка! Ведь просто!…" И ответ Тохтама-парня на слуху — "Наверно, просто, да вот не знаю, где поставить эту самую точку…" И чей-то смешок на слуху, и слова пучеглазого Баратахуна, тогда Баратжана: "Чего заладил, товарищ Пазылов… "не знаю"… "точка"… Учись грамоте, читай книги, слушай радио, окончи рабфак — научишься ставить не только точку, но я восклицательный знак!"…
— Да, ваш земляк, — подтвердил, помнится клиент.
Пазыловы удивились: сколько прожили в одном городе и ничего не знают друг о друге. Ладно бы не ведали о них, Пазыловых — тут ясно яснее ясного: Пазыловы — люди простые, для таких и мякина — корм. Но чтобы не знать о сыне Азиза-аки, человеке видном, ученом!… Впрочем, так ли уж это удивительно: город огромный — десятки гигантских проспектов и бульваров, сотни улиц, маленьких и больших, десятки тысяч домов, адресов… всякого рода учреждений и конторы… тысячи и тысячи людей на этих улицах, в учреждениях, конторах, на фабриках и заводах — людей разных, молодых и старых, маленьких и больших, добрых и злых, видных и невзрачных — город — человеческий муравейник с миллионами щелей и человеческих страстей — спрашивается, что особенного в том, что в этом муравейнике выпал из поля зрения Пазыловых сын Азиза-аки Ошурахунов?
— Адыл Азизович в городе недавно, — сказал, будто догадавшись об удивлении хозяев, сын Каюма-аки — человек со свертком.
— Вы сказали: "Адыл в городе недавно, “— я не ослышался? — полюбопытствовал муж.
— Сказано именно так — слух у вас, должен признать, отменный.
— Вот как! Они в городе недавно — это меняет дело.
— Где же их носило все это время? — подала голос и Сабира-адам, — не в Алма-Ате ли?
— Не только. Ошурахунов, — сын Каюма-аки, помнится, вдруг с "Адыла Азизовича" перешел на "Ошурахунов", притом произнес это "Ошурахунов" так, что Сабире-адам стало чуточку не по себе, будто не сказал — выплюнул, — начал в Москве…
— Так и скажите — в Москве. Но почему "начал" — Москва оказалась не по зубам?
Помнится, сын Каюма-аки машинально, что поделаешь с памятью, извлекающей порой из потаенных глубин прошлого глупые подробности? — так вот, сын Каюма-аки машинально взял в руки туфлю, одну из тех, что принес он в свертке, и Сабира-адам на секунду-другую отвлеклась, стала думать о туфле с шикарной дыркой в подошве. На ногах клиента она увидела новенькие туфли — значит, смена обуви произошла недавно, клиент облачился в новое, но туфли с замечательной дыркой не стал выбрасывать — отчего? Из-за скупости? Бедности? Или человеком руководил разумный расчет? Вот тебе и туфли с дыркой — пустячок, а пораскинешь умом, вникнешь и окажется, что пустячок содержит нечто далеко непустячное. И еще. Не будь этой дырки в туфлях, не будь знаком до этого клиент с Черепахой, посоветовавшей обратиться к соседу, к разлюбезному ее супругу — не будь этих пустячков, не исключено, что пути жизненные Пазыловых и сына Каюма-аки, тогда просто клиента, никогда бы не скрестились. Между тем сын Каюма-аки машинально гладил по подошве с дыркой, будто прощаясь с ней, хотя, конечно же, его мысли были в другом.
— Ошурахунов, как вам, наверное, известно, учился в Казани, потом в Москве, — продолжал он, поглаживая туфлю с шикарной дыркой в подошве и уже не стесняясь, как в начале визита. — В Москве же он начал трудиться…
— И все-таки в Москве, — не то принял к сведению, не то поинтересовался муж.
Сабире-адам стало неловко, будто поинтересовалась она, а не муж. Не умом, скорее чутьем догадалась, что человек этот, нежно поглаживающий ладонью шикарную дырку в подошве туфли, не разделял особого восторга хозяев к Ошурахунову — сыну Азиза-аки. А ведь оба они, можно сказать, были ялпызчанами. Правда, сын Азиза-аки на все сто процентов, а сын Каюма-аки, живший в городке неподалеку, по его словам, иногда заезжал на денек-другой пообщаться с родственниками. Отчего так? Не оттого ли, что, как выяснилось тогда же, лаборант-фотограф Касым Рузиев сын Каюма-аки завидовал ученому, а теперь и своему начальнику Ошурахунову Адылу сыну Азиза-аки? Из песни, как говорят русские, слов не выкинешь (хотя сколько раз бывало, что именно из песен-то и выкидывали): каждый второй ялпызчанин из тех, с кем сводила ее судьба, кому-нибудь в чем-нибудь да завидовал.
А зачем? Для чего? Прок от того какой? Суета — и только. Да разве только ялпызчане завидуют?! Куда ни глянь — будто мир человеческий помешался на зависти: этот завидует тому, а тот этому. И завидуют по пустякам: построил что-то у себя в хозяйстве — уже зависть, приобрел на трудовые копейки обнову — тоже, нарожал детей — тут и вовсе готовы сглазить! А казалось бы чего проще: вместо того, чтобы завидовать, сам построй, приобрети, роди — вот так: поднатужься, соберись с силами и построй, поднакопи деньга и купи, ну и остальное… Будь у Сабиры-адам власть над людьми, не поленилась бы, издала нечто, похожее на указание: мол, отныне м навечно запрещено людям завидовать!..
— А потом двинул в Алма-Ату, — говорил сын Каюма-аки, по-прежнему поглаживая шикарную дырку в подошве туфли, — а оттуда в Турешар…
— Говорите в Турешар? Из Алма-Аты — в Турешар?
— Из одного института в другой. А уже из Турешара направил стопы сюда…
С этого визита сына Каюма-аки начался отсчет дружбе семьями Пазыловых и Рузиевых. Рузиевы первыми пригласили Пазыловых в гости. Но не по случаю успешного ремонта туфлей — сын Каюма-аки с супругой, моложавой Халчам, пригласили их на новоселье. "Новоселье" сказано чересчур громко — скажем так: пригласили на вечер по поводу вселения на новую квартиру. "На новую квартиру" сказано тоже громко — скажем так: по поводу обретения квартиры, потому что вселились Рузиевы в старую квартиру в стареньком одноэтажном коммунальном доме с полуметровыми стенами из самана, с чердаком и двускатной одетой в черепицу, крышей. Радость Рузиевых можно было понять: несколько лет с семьей, притом, по нынешним меркам не маленькой, из пяти душ, с тремя маленькими детьми, таскаться по частным квартирам и — на тебе — квартира! Не очень-то, правда, благоустроенная, из двух комнат, одна из них служила одновременно и кухней, и столовой, и гардеробом, и, наконец, кладовой — словом то была квартира без коммунальных удобств, но, помнится, хозяева были счастливы, да так, что казалось, что согласились они вселиться в нее именно потому, что она не содержала коммунальных удобств, именно потому, что в ней отсутствовала настоящая кухня и санузел, а отопление было индивидуальное, печное.
— Нет хитрее нас, Рузиевых, — делилась тогда планами приветливая хозяйка, — вселились и тотчас же записались в очередь на расширение. Пока терпимо, а там, глядишь, и подоспеет очередь — отхватим трехкомнатную: дети-то разнополые: двум мальчикам не обойтись без своей комнаты, а девочке — тем более.
Что ж, резонно: нужна человеку хитрость. Но хитрость иного рода, не такая, как у Рузиевых хитрость. Что добились Рузиевы хитростью? Более десяти лет минуло с тех пор, как они вселились в коммунальную квартиру, а шансы на получение новой квартиры только-только -что стали проклевываться. Сабнра-адам была убеждена: не Рузиевых, а хитрее их, Пазыловых, в решении жилищных проблем не сыскать в округе? Вернее, хитрее ее разлюбезного супруга. Что сделал Тохтам — сын Закира-аки? Сын Закира-аки не стал записываться в очередь — толку от того? — он приобрел на жалкие гроши крохотную глинобитную времянку-завалюху в конце города. Спустя восемь лет рядом с завалюхой, так сказать по камешку, по кирпичику, вырос дом-красавец. Потом, что ни год — новое: летняя кухня, банька, бостан под развесистой урючиной!
Так ли хитер сын Каюма-аки? Человек вот-вот выйдет на пенсию, а никаких богатств не нажил. Да, верно, и камни обрастают мхом, но сын Каюма-аки как раз пример того камня, который, если и оброс мхом, то так, что сквозь этот мох видно нутро камня. Трех детей вырастил — дочь музыкантша-флейтистка, старший сын мастерит поделки из камня и дерева, младший служит в армии — что с того? Ставить детей на ноги — богатство, доступное каждому. Фотографий наделал, наверное, тысячи и тысячи — так то по долгу службы. Сверх того, правда, статейки и заметки и опять же фотографии, опубликованные в газетах и журналах — вот и весь "мох". А сколько неприятностей нажито из-за этих статеек и заметок? Вот ведь и нынче влип в скандальную историю, испортив отношения с начальством — горяч, несдержан. Неспроста во время стычки Адылжана с Пучеглазым сидел, будто набрал в рот воды, будто молча одобрял поступок сына…
Прочь недобрые воспоминания!
Сабира-адам приказала себе: думать только о хорошем! В том же первом визите к Рузиевым разве мало было приятного?! Как радушно тогда встретили гостей Рузиевы! Как старались угодить гостям! Стол ломился от явств: варенья разных сортов собственного изготовления, санза, нават, виноград, кажется, трех сортов, яблоки, груши-дули, фисташки и грецкие орехи, ну и, конечно, замечательный хошан! Запомнилось: сын Каюма-аки извлек откуда-то бутылку шампанского, мол, встречи друзей, по современным обычаям, положено освящать горячительным, но разлюбезный супруг запротестовал, да так горячо, что хозяин со словами "Вы, Тохтам-ака, будто грудью бросились закрывать пулеметную амбразуру" счел за благо упрятать в шкаф нехорошую бутылку. Случай с бутылкой шампанского задержался в памяти, но Сабира-адам, приведись, могла бы вспомнить и еще немало приятного. В гостях главное не обилие угощений, не качество винограда и варений к чаю и не сам чай, главное в гостях — нечто незримое, то, что заражает гостей и хозяев искренним духом сердечности, то, от чего гости верят хозяевам, а те — гостям. Любое угощение без этого "нечто", что кость в горле: вроде бы улыбаются хозяева, а у тебя нет веры этим улыбкам, и еда тебе не еда, и чай не чай… Помнится, у Рузиевых в гостях с самого начала, после события с бутылкой шампанского между Пазыловыми и Рузиевыми установился лад: гости хвалили стол — хозяйка ни капельки не скрывала удовлетворения по этому поводу, гости отказались от горячительного — хозяева не обиделись, приняли отказ за должное, а когда муж повел речь о музыке, сын Каюма-аки включил проигрыватель, предложил послушать, пластинку с записями мукамов, и пошла, потекла, помнится, душевная беседа…
А устройство на работу после выхода на пенсию!
Сын Каюма-аки, проведав о ее желании работать техничкой, позвал к себе, в Учреждение. Сабира-адам смутилась, и тогда сын Каюма-аки, не дав опомниться, всю эту суету с трудоустройством взвалил на свои плечи: написал от ее имени заявление, отнес его в отдел кадров, обговорил условия работы, не очень обременительные при вполне сносной зарплате — так сказать, разжевал и положил в рот. Надо ли говорить о том, как она благодарна ему! Как радовалась грядущей перемене! Волновалась она, по-мнится, как учащаяся ФЗУ, едва переступившая порог самостоятельной жизни, боязливо входила в новое, стараясь избежать ошибок в работе и оценках людей.
Помнится, она готовилась к неминуемой встрече с Адылом, сыном Азиза-аки, переживала, но обрадовалась просто и не столь удивительно, как хотелось бы — впрочем, слава богу, что обрадовалась просто.
Как было? Шла она как-то по коридору — в руках ведро, в ведре — веник, а навстречу, о чем-то оживленно беседуя, — двое: мужчина невысокого роста, что-то горячо доказывавший собеседнику и седоголовый — сын Азиза-аки! Шли мужчины медленно, то и дело останавливаясь и рассматривая бумагу. Сабира-адам невольно замедлила шаг, затем и вовсе остановилась, пропуская вперед мужчин, а когда те поравнялись, не удержалась, поздоровалась. Сын Азиза-аки, помнится, рассеянно и чуточку удивленно взглянул на нее, бросил:
— Здравствуйте.
— Вы не помните меня? — помимо воли вырвалось у нее.
— Hе помню, — признался сын Азиза-аки.
— Я Сабира Пазылова.
— Пазылова?
— Это сейчас Пазылова. А вообще-то Исмаилова дочь Негмата-аки, — помните, двор с высокими дувалами на окраине Ялпыза?
— Из Ялпыза, говорите? — сын Азиза-аки по-прежнему был рассеян, мысли его, казалось, были заняты другим.
— Именно — из Ялпыза.
— Хорошо, — сказал тогда сын Азиза-аки и после короткой паузы добавил:— Очень хорошо, — после чего почему-то его спутник засмеялся, а сын Азиза-аки, повернувшись к нему, молвил: "Пройдемте ко мне, там и поговорим,” — и уже собираясь идти, повторил:— очень хорошо…"
Сколько длилась встреча? От силы минуту-другую, не больше. Не все в той встрече было ясно до конца: что значили эти "хорошо, очень хорошо" — хорошо, что встретились? Но, может быть, хорошо, что Сабира-адам работает техничкой в Учреждении? Или то, что она, дочь Негмата-аки Исмаилова стала Пазылова? Может быть, услышав ее нынешнюю фамилию, сын Азиза-аки, вспомнил разлюбезного ее супруга, то есть Пазылова Тохтама сына Закира-аки н догадался о причинах, побудивших Исмаилову стать Пазыловой? И еще, еще вопросы, в сумме — приятный клубок размышлений — то, к чему Сабира-адам часто охотно возвращалась.
Да, действительно мудрая женщина Гусева Валентина Густавовна, некогда посоветовавшая не волновать, сердце нехорошимв думами! Она всегда следовала советам Гусевой Валентины Густавовны, старалась добрыми воспоминаниями прогнать цыпленка — и когда волнение и боль исчезали в затишье, она, человек благодарный, часто мысленно обращалась к ней. "Спасибо, вам, дорогая Гусева Валентина Густавовна, — молила она, при этом всячески сохраняя спокойствие — за совет. Дай бог вам всего, всего только хорошего и прежде всего здоровья. Дай бог, чтобы у вас не болело не только сердце, но и другие жизненно важные части вашего организма…"
6
Сабира-адам установила: у сына Каюма-аки на службе крупные неприятности только за время совместной их работы случались по разу в год — если это так, то сколько же, спрашивается, накопил он подобного добра за все время службы в учреждении! Отчего? Зачем? Только из-за того, что начальство плохое, а ты работник хороший? Да, наверное, случается и похожее — ведь жизнь, что лес с тысячами и тысячами деревьев, с живностями разного рода и племени. Чего не бывает в лесу? Вот огромное дерево, а под ним крохотное невзрачное деревце. Вьется изо дня в день деревце, рвется к свету, пытается пробиться к свету, а все тщетно, а там, глядишь, начинает оно таять, словно свечка — тает и тает. А вот такое же большое дерево рядом, чуточку поодаль, такое малюсенькое и невзрачное. И — ничего. Сосуществует большое и малое. И даже, наверное, польза от того, что живут рядом, может быть, где-то на глубине сплелись их корни и незаметно питают друг друга соками, или вот стоит дерево, а вокруг него десятки деревцев, оплели дерево ветвями, да так, что тому жизнь не жизнь. Вот так порою и в коллективе складываются по-разному отношения работников с начальством — не все, ясное дело, как в лесу, идет гладко, случаются и стычки, и ссоры, и, конечно же, происходит это не от того, что начальство хорошее или плохое. Причина тут чаще всего — в самих работниках: происходят эти ссоры и стычки из-за их несдержанности, неумения и порою нежелания понять начальника. Казалось, чего проще: выйди, если не нравится из-под дерева, не оплетай его, стань рядом, срастайся с ним корнями! Дело-то общее.
Несдержан сын Каюма-аки Рузиев. Горяч. Впрочем, как и сын Адылжан. Две спички, готовые воспламениться обо что угодно.
Почему?
Помнится, причинами спора сына Каюма-аки с начальником Учреждения — точнее, одной, затянувшейся более чем на год ссоры из двух вспышек-стычек — так вот, ссору, случившуюся на ее глазах, вызвала несдержанность сына Каюма-аки. Случилось это… Но, нет — прочь, прочь нехорошие воспоминания!
Отчего у нее, Сабиры-адам, обстояло иначе? Почему она, не в пример сыну Каюма-аки, ни разу не поссорилась с начальством? Не здесь, в Учреждении — речь идет о прошлом, о работе на фабрике "8 марта", которой отдано более 30 лет жизни — 30 лет и ни одной серьезной стычки с начальством! И не только серьезной — просто стычки. Не только с начальством — стычки вообще, с кем угодно, скажем, с товарками по цеху, или товарищами по профсоюзной работе, цехкому, в составе которого она несколько лет состояла — язык не поворачивается сказать "проработала'' — неужто все это было… было… было? Или с работницами рабочей столовой. Или с теми же техничками, тогда именовавшимися уборщицами и носившимися по территории фабрики, по цеху тучами. Кстати, на этих последних, помнится, в суете трудовой никто не обращал внимания, по утрам они в черных халатах и с ведерками в руках собирались почему-то у конторы АХР, вызывая у нее жалость: в цехе бурлила жизнь, а эти будто носились в пустоте со своими ведерками. Знала она, конечно, что обстояло сложнее, но все равно не покидала мысль о потерянности женщин в черных халатах.
Ни одной стычки, ни одной ссоры, более или менее серьезной, хотя поводов тому хватало. Могла сцепиться, например, с подругами по цеху. И не с одной. Не любила она равнодушия к делу, потому что от равнодушия даже не шаг, а полшага к браку. Раздражали неаккуратность и невнимательность, не выносила она и пустых разговоров в разгар работы. Помнится, под рукой только-только рождается строка, такая, знаете ли, прямая, точная, все — мысли и чувства — подчинено работе над строкой и вдруг, где-то рядом, нет-нет да и послышится: "Вы слышали, Пальцева выдала замуж дочь?" или: "…Жумалиева отказалась от очереди на картошку…" или "…В кинотеатре "Ала-Тоо" состоялась встреча с артисткой Хитяевой…" Oт такого рода посторонних разговоров становилось не по себе, потому что они уводили мысли от строки, линии, потому что она, помимо воли, пусть минуту-другую, начинала думать об этой Пальцевой, о свадьбе ее дочери, потому что она невольно принималась думать о загадке с Жумалиевой, хотя никакой загадки на поверку не было, потому что эта Жумалиева, уроженка картофельного Чон-Кемина, не порывавшая связей с родными, числилась в очереди на картошку скорее всего по недоразумению; или пыталась представить встречу с артисткой Хитяевой, чем-то похожей лицом и, наверное, характером на Клаву, дочь Федора — наполовину перец, наполовину мед — все это, конечно, не могло не отвлечь от строки. И такие нехорошие случаи, могущие вывести из себя кого угодно, происходили всегда. И выходили из себя люди, цапались, между собой, с начальством, с другими службами на фабрике, с электриками, АХР, работниками столовой…
Чего стоит, например, переполох, устроенный Аимхан, дочерью Усман-аки в фабричной столовой! Только-только что, помнится, в этой столовой ввели самообслуживание — новшество, показавшееся вначале занятным: бывало по привычке устроишься за обеденным столом в ожидании официанта, а тебе кто-нибудь из соседнего стола:
— Девочки — самообслуживание!
И приходилось "девочкам" засорокалетним, без пяти минут старушкам, Аимхан дочери Усмана-аки и Сабире дочери Немата-аки — смех и только! — держать путь к месту отпусков обедов…
— Некогда думать — я на работе, — огрызнулась, помнится, и притом весьма неудачно, работница столовой.
— Вы считаете, что можно работать, не думая? — конечно, дочь Усмана-аки не могла упустить замечательную возможность проявить свое красноречие. — Мы, представьте себе, полагаем, что людям свойственно обдумывать работу. Самообслуживание, Часовая с Глазами Ястреба, — свидетельство доверия между вами, работниками торговли, и нами, трудящимися. Надо доверять людям, дорогая! Вы допустили политическую ошибку, дорогая!
После этого "вы допустили политическую ошибку", Часовая с Глазами Ястреба мгновенно преобразилась, обратившись из ястреба в голубя.
На том заваруха не закончилась, дочь Усмана-аки вскоре, пожевав кусочек котлеты, изменилась в лице.
— Одно из двух: либо эти котлеты действительно отвратительные, или я не в состоянии отличить хорошее от плохого! — сказала, рванув с тарелкой на кухню.
Подумать только сыр-бор разгорелся из-за сущего пустяка — копеечной котлетки! Сабира-адам поступила бы иначе: отодвинула бы тарелку с порченой едой в сторонку, скушала бы булочку, или какой-нибудь пирожок с чаем и — до свидания. Как, однако удивительно устроен мир, что ни человек — своеобразный характер. Вот ведь и сын с другом как-то размышлял о том. Помнится, Адылжан по какому-то поводу сказал приятелю слова, смутившие ее неясностью и еще чем-то таким, что невольно тянет к раздумьям. Он сказал Рахимжану: "человек — целый мир", тот не то возразил, не то полюбопытствовал, сказал, что на земле людей тьма-тьмущая. И при этом, уперся в свое сын, сказал: “каждый из этой тьмы — мир.” А Рахимжан, помнится, переспросил:
— Каждый?
— Да, каждый, — ответил Адылжан.
Затем он прочел свои стихи, написаные на русском языке и запомнившиеся ей тем, что там было несколько слов об этих мирах. Трудно сказать, каждый ли из живущих на земле таков, каким представляет сын, — не ее разумению подвластны сложные таинства бытия — а вот то, что у каждого человека свой характер и что действует он сообразно своему характеру и привычкам — истинно…
Между тем, события в рабочей столовой разворачивались бурно. Сабира-адам, услышав шумы, вошла на кухню — перед взором ее предстала замечательная картина: работница кухни покаянно и молча слушала дочь Усмана-аки.
— Хорошо. На этот раз простим. Мы с товарищем Пазыловой, — дочь Усмана-аки придала голосу нечто, смахивавшее одновременно на сострадание и торжество, — пожалуй, не станем сигнализировать народному контролю. Обойдемся и без жалобной книги. Но с одним условием…
Дочь Усмана-аки выложила условие: покаяния недостаточно — повара должны съесть в присутствии пострадавших содержимое тарелок!
И надо же — съели! Повара, чуточку поколебавшись, подвинули к себе тарелки и будто лакомые блюда, скушали котлетки. Впрочем, это — по словам дочери Усмана-аки, скушали, потому что у Сабиры-адам не было желания наблюдать нехорошую трапезу работниц фабричной кухни — не удержалась она, бросилась вон из кухни…
7
Порою Сабиру-адам так и подмывает выкрикнуть: "Эй, люди, живите спокойно! Не ссорьтесь с товарищами по работе, с начальством — не затевайте заваруху, потому что от них одни неприятности! Потому что всякого рода заварухи порождают массу неудобств в трудовых коллективах!" Порою Сабиру-адам так и подмывало выкрикнуть: "Люди, живите и трудитесь без суеты!"
Скажем так, как она, Сабира-адам.
А что?
Более половины жизни она отдала работе на фабрике "8 марта". Более тридцати лет человек проработал на швейной машине — более тридцати лет и зим — и ни одного существенного недоразумения по службе! Ни одной ссоры с товарищами! Ни одной стычки с начальством! Бывало, поднимешь голову, а за окном — или снежок, или зелень, или тополя у фабричной ограды в золоте — подивишься секунду-другую картинкам природы и тотчас мыслями назад, к служебным обязанностям. Отчего так? Может, оттого, что от рождения удачлива в работе. Как бывает: человек сначала учится, затем практикуется, набирается опыта, а у нее — иначе, с первого же дня сладилось и с хитрой техникой и со строкой в шитье, да так, что Аимхан дочь Усмана-аки не утерпела, закричала на всю мастерскую:
— Уей! Да вас и учить-то нечему! А притворялись неумейкой!
А ведь ремеслу швеи она до этого не училась. Если не считать, правда, баловства на домашней швейной машинке, чем-то смахивавшей на патефон: казалось, крутни ручку — и запоет, что-то вроде "… закуковали кукушечки… одна в горах… эта в моем саду…" Нет, не училась до того — просто очень внимательно слушала наставления мастера, сосредоточенно следила за ее действиями, спустя несколько минут попробовала сама, положила ладони на ткань, заработала ногами — и пошло, пошло, пошло… До сих пор в памяти первая строка — бежала та ровненькими шажками прямо, прямо, прямо…
Жизнь Сабиры-адам складывалась подобно этой строке — двинулась она выверенными шагами, не отставая и не спеша, вперед. Приходила на работу заблаговременно — это чтобы настроиться, подготовить собственноручно рабочее место, уходила чуточку позже, чтобы прибрать за собой, сдать смену из рук в руки. И так более тридцати пяти лет. И ни одного случая невыполнения плана, ни одного случая недоработки. Да что недовыполнения! Ни одного случая выполнения плана ниже ста пятнадцати — ста двадцати процентов! Сабира-адам, тогда просто Сабира Пазылова, впрочем, не старалась во что бы то ни стало перевыполнить план — "лишние" проценты и процентики набирались сами по себе: справится, скажем, со своими она, потом сбегает к другому, обработает копеечные петельки, к примеру, а там, глядишь и набежало сверх нормы. Воспринимала Сабира Пазылова процентики как нечто обязательное: ведь набегали они, пусть поменьше, по пять-шесть процентиков, и у других — что с того? Как нечто разумеющееся воспринимали ее достижения и товарищи по работе. И начальство. И слава богу, что воспринимали так, а не иначе — спокойнее от того жилось: никто не беспокоил — работай в удовольствие!
Помнится, с десяток лет Сабира-адам, тогда Сабира Пазылова, была в славном коллективе швейников вроде камешка в насыпи галек, или колоска в пшеничном поле — попробуй отыскать эту гальку или колосок среди сотни и тысячи тебе подобных! — а затем вдруг отличили благодарностью, а затем посыпалось: что ни праздник — благодарность, а по особым праздникам — грамоты, отпечатанные на вощеной бумаге, а незадолго перед уходом на пенсию — даже орден. Орден "Знак Почета". Нельзя сказать, что она была не рада поощрениям. Отчего же! Немало приятных волнений, помнится, испытала она во время объявления первой благодарности, вручения первой грамоты, ордена. Пожалуй — все. Чаще поощрения смущали душу. Услышав об очередной благодарности или грамоте, Сабира Пазылова день-другой, а то и недельку-другую старалась затеряться в цехе, не ахти какая говорливая, тут и вовсе лишилась языка — не покидало, помнится, нехорошее чувство, что заполучив благодарность или грамоту, она этим как бы обкрадывает подруг, которым они, эти грамоты и благодарности, может быть, действительно были нужны. Однако не хватало смелости отказаться — понимала: отказ мог обидеть начальство, осложнить отношения, поссорить с ним, накликать неприятности вроде всякого рода заварух — какой от них прок? Вот и приходилось принимать как должное почести, чтобы затем, пряча смущение и неловкости, раствориться в коллективе, в работе. Да, в работе, потому что работа вроде крепости: сидишь, стрекочешь на машинке, уходишь в себя, да так, что становятся не до поздравлений этих "…рада за тебя… поздравляю… молодчина Гаганова… "Гаганова" — прозвище ее. Услышала она о прозвище волею случая в фабричной столовой: сидела она в раздевалке, разморенная, без настроения, как вдруг за спиной резануло слух чье-то: "Слышала, Пазылову предоставляют и награде?.." И ответ: "… Гаганову-то?…" А вскоре это "Гаганова…" услышала она из уст самого Билима Айткуловича Терекова — директора фабрики! И где? На самом представительном собрании! При вручении ордена.
— Поздравляем нашу Гаганову! — так и сказал уважаемый Билим Айткулович — Дай бог ему доброго здоровья! — и добавил, поправившись: — Нашу Пазылову… — и еще добавил, заглянув в бумагу: — Сабиру Нематовну.
В зале, помнится, почему-то засмеялись, захлопали в ладоши. Помнится, вышла она на сцену ни живая, ни мертвая, ноги ватные — еле держат — взяла награду, молвила:
— Спасибо за внимание… Буду стараться…
И уже собираясь уходить, сказала еще:
— Только я не Гаганова, я… я…
После этого "… я…" будто и вовсе отнялись язык и разум: нужно что-то сказать, а сказать нечего — в голове пустота, есть что сказать — онемел язык. Впору, помнится, было бежать. Помнится, она в самом деле рванула со сцены. И убежала бы. Если бы не директор. Уважаемый Билим Айткулович Тереков, помнится, остановил ее, мило улыбнулся, заглянул очень дружелюбно ей в глаза, подвел к краешку сцены и сказал:
— Продолжайте, товарищ Пазылова. Что значит "…я…"?
— Я Пазылова… — произнесла она и, будто поперхнувшись, замолкла.
И снова выручил Билим Айткулович Тереков — заулыбался широко, обратился в зал:
— Давайте, товарищи, похлопаем нашей Гагановой!
Конечно, все захлопали. И первым Билим Айткулович Тереков. И хлопал, помнится, Билим Айткулович Тереков не так, как все — не шлепал из всей силы ладонью о ладонь: он держал ладонь левой руки неподвижно, плавными взмахами культурно касаясь ее пальцами правой.
Ну, сравнили! Какая она Гаганова! Кто Гаганова — кто Пазылова?! Гаганова Валентина — жаль, нигде об отчестве ничего не говорится! — работает на нескольких станках. Правда, станках ткацких. А Пазылова? От силы на двух машинках — если точно, 100 процентов на своей и остальные 20-25 процентов на другой. Гаганова Валентина — человек государственный — столько о ней пишут в газетах, столько-то о ней говорят, ставят в пример. А она? Обыкновенная женщина, не лучше, правда, и не хуже других женщин фабрики "8 Марта". Гаганова Валентина — женщина молодая, красавица писаная. А она? Тогда, когда все это происходило, дела подкатывались и уже подкатились к пенсии, да и раньше она красивой, если честно, казалась разве что одному мужу, Тохтаму сыну Закира-аки. Может быть, еще — дочери Усмана-аки.
Гаганова! И все же с глазу на глаз сверстницы звали ее просто Сабирой, или по-русски Соней, начальство, за исключением Билима Айткуловича Терекова — Пазыловой, Аимхан дочь Усмана-аки сначала в шутку, потом по привычке и всерьез — дочерью Негмата-аки. А за глаза, выходит, — Гагановой. Очень неуютно чувствовала она из-за этого прозвища: будто на старую лошадку надели новенький с иголочки хомут, а в итоге — ничего хорошего ни хомуту, ни старой кляче — одна суета…
Помнится, поздним осенним вечером, изрядно намокнув под дождем, стояла она на автобусной остановке. Вид у нее был замечательный: в руках ведро, в ведре — веник, у ног — собачка. Вдруг рядом притормозила белая "Волга" с беленькими шторками, открылись дверцы, и в проеме их она увидела — кого бы вы думали? — уважаемого Билима Айткуловича Терекова!
— Гаганова! — удивился, помнится, Билим Айткулович Тереков. — Ждете автобус? Куда вам?
Сабира-адам пришла в себя, ответила.
— Это по пути. Подбросим. Садись, — предложил Билим Айткулович Тереков.
— Да как же… Да я… — прямо-таки залепетала, помнится, Сабира-адам.
— Ничего особенного — подбросим!
— Мокрая я… как же…
— Садитесь.
— Не одна я, — Сабира-адам показала на собачку, наклонилась к ней, Пстак запрыгнул в ведерко, да так ловко, что Билим Айткулович Терехов умилился.
— Все живое тянется к теплу, — сказал он, смеясь. — Оба скорее в машину.
Не хотелось, но сесть пришлось. Огляделась. Впереди рядом с водителем сидел пожилой мужчина в добротном сером макинтоше и шляпе, на заднем — Билим Айткулович Тереков (тоже в макинтоше и шляпе) и теперь она с ведром на коленях, с собачкой в ведерке.
— Познакомлю я вас, Сергей Васильевич, — помнится, сказал Билим Айткулович сразу после того, как машина тронулась, — с человеком редким.
Мужчина на переднем сидении решил представиться первым.
— Сергей Васильевич Черепанов, — назвал он себя, а затем повернул голову к Билиму Айткуловичу Терекову, полюбопытствовал: — Говорите, редкий?
— Наша Гаганова, — сказал Билим Айткулович Тереков.
— Сабира Пазылова, — сказала она и вроде бы представилась Сергею Васильевичу Черепанову и одновременно поправила Билима Айткуловича Терекова.
— Проработала товарищ Пазылова Сабира Нематовна, — Билим Айткулович назвал ее второй раз в ее памяти по имени и отчеству, — более тридцати лет на одном предприятии без единого замечания…
— Неужели?
— Представьте — ни одного замечания. Ни одного конфликта.
— Это важно, — сказал Сергей Васильевич Черепанов, — и добавил, смеясь:— У меня меньше двух больничных не выходило за год. А конфликты случаются каждый божий день.
— Возможно ли, Сергей Васильевич, без неполадок в работе, — вроде бы спросил и в то же время поддержал спутника Билим Айткулович Тереков.
— Оказывается, возможно, — сказал Сергей Васильевич Черепанов, обернулся, спросил: — Где вы сейчас?
— Тружусь потихоньку. Техничкой.
— Прекрасно, — похвалил Сергей Васильевич Черепанов. — А я, знаете ли, никак не дождусь пенсии. И пчелки мои будущие не дождутся. Уйду на пенсию, заведу пасеку — тишь и благодать.
— У вас есть увлечение — пчелки, а куда мне? — позавидовал Билим Айткулович Тереков. — Одна дорога в сторожа.
— А что! Очень даже спокойная работа.
Мужчины рассмеялись. Засмеялась и Сабира-адам: смешно было представить Сергея Васильевича и Билима Айткуловича, людей солидных, государственных, сторожами. Но вот только жаль: оба они, как говорят русские, находились “под мухой,” т.е. под воздействием спиртного, от них — неудобно о том вспомнить — разило нехорошим. Хуже того, спустя год после этой встречи Билима Айткуловича Терекова не то сняли, не то переместили на другую работу, в организацию, не имеющую никакого касательства к швейному делу — тоже начальником, правда, но с меньшей зарплатой, поговаривали: перемена эта произошла не в последнюю очередь из-за пристрастия уважаемого Билима Айткуловича Терекова к горячительному. А жаль!..
За окном стояла непогода, бил о стекла дождь, а в салоне было тепло, уютно, весело — что и говорить, по-доброму сложилась встреча с Билимом Айткуловячем Терековым и Сергеем Васильевичем Черепановым. С удовольствием вспомнила о ней Сабира-адам. Да и с пользой тоже, потому что приятные мысли — тысячу раз права Валентина Густавовна Гусева! — действуют на сердце успокаивающе. Они сродни успокоительным таблеткам. Если не лучше того.
Сабира-адам, как кино, прокрутила в памяти подробности встречи: еще раз увидела себя в салоне беленькой "Волги" с беленькими шторками, услышала голоса Билима Айткуловича Терекова, и Сергея Васильевича, подумала: "Надо выкроить время и заглянуть на фабрику, как-то там? Нехорошо получается, вышла на пенсию — будто испарилась…''
8
Ссора Касыма, Рузиева сына Каюма-аки с Адылом Ошурахуновым сыном. Азиза-аки для Сабиры-адам была неожиданной. Конечно, нечто не вполне различимое, предвещавшее нехорошее, все же ощущалось. Не слепая, она — видела, как при одном лишь упоминании имени сына Азиза-аки сыну Каюма-аки становилось не по себе. Отчего в беседах с сыном Каюма-аки она старалась не затрагивать ничего, что имело отношение к сыну Азиза-аки. Но подмывало спросить: отчего холодок между зем-ляками? Чего не поделили?
Где обозначились первые сполохи надвигавшейся грозы? Не в мастерской ли сына Каюма-аки?
Да, кажется, да, в мастерской именно. Вошла она в мастерскую с папироской в руках, опомнилась, потушила ее, но было поздно — сын Каюма-аки, человек вообще-то немногословный прочел настоящую лекцию о курении. Помнится, слушая "лекцию", она разглядывала фотографии на стене. Сын Каюма-аки, не отрываясь от работы — а занимался он тем, что обрезал концы фотографий — сыпал фактами о треклятом табаке-напасти страшнее которой, пожалуй, не было ничего на свете. Он посмеивался, журил, наставлял, любопытствовал: отчего нехорошая страсть к курению? У женщины, к тому же в возрасте? Что ни вопрос — будто льдинки под платье. Она сочла за благо отмолчаться. Не могла же рассказывать о том, как однажды, казалось бы, ни из-за чего вспыхнуло желание, как неожиданно для себя и Аимхан дочери Усмана-аки попросила у той дымящуюся папироску, сделала первый в жизни вдох, закашляла, да так, что дочь Усмана-аки умилилась, и поцеловав ее в щечку, сказала:
— Отныне, милочка, вы святая наполовину.
Это — к удивлению, потому что до сих пор не приходилось слышать, чтобы святость человека ставили в зависимость от того, курит тот или не курит, чтобы табакуру отказывали в этой святости наполовину — не менее, но и не более. Но не могла она тогда историю с первой папироской — а называлась та папироска "Кызыл гуль" *, такая, знаете ли, тоненькая папироска, начиненная табаком, и, наверное, еще чем-то таким невидимым, казалось, нематериальным — так вот, рассказывать тогда о первой папироске не было решительно никакого резона. Да, некогда попутал бес, да, курение вошло в привычку, стало чем-то таким, без чего она не могла себя представить, да, нехорошо — но что делать? Чувствовала она себя действительно неуютно и, когда в мастерскую вдруг вошел Адыл сын Азиза-аки Ошурахунов обрадовалась как счастливому поводу покончить с неприятной темой. Конечно, рада она была и другому — видеться с сыном Азиза-аки вот так близко в земляческой компании приходилось впервые.
(*Кызыл гуль — красный цветок /тюрк./)
Увидев в проеме дверей сына Азиза-аки, Сабира-адам поспешно вскочила на ноги, вопреки житейским правилам, первой приветствовала — на минуту-другую вернулось нечто испытанное в юности: казалось, сейчас в эту небольшую фотомастерскую вошел не Адыл сын Азиза-аки Ошурахуиов, один из больших начальников Учреждения, а рабфаковец Адыл и вошел, казалось, рабфаковец Адыл с единственной целью продолжить занятие, которое он провел некогда с молодежью Ялпыза — о религии, Коране, суннитах и шиитах, т.е. о том, что не укладывалось в маленькой девичьей головке — только и запомнилось, что бога нет, а есть счастливый освобожденный труд. Она об этих суннитах и шиитах так и не уразумела толком, а вот с богом обстояло просто потому, что его, бога, по словам рабфаковца, не существовало на бренной земле…
Сын Азиза-аки, ответив на ее приветствие едва заметным кивком головы, стремительно направился к сыну Каюма-аки, коротко поинтересовался:
— Трудимся, Каюмович?
Сын Каюма-аки прервал работу, вытер руки, поздоровался, предложил табуретку:
— Располагайтесь, Адыл Азизович.
— Некогда засиживаться, — сын Азиза-аки от стульчика тем не менее не отказался, присел на краешек его, вытер платочком шею.
— Отчего же?
— Делов невпроворот. Крутишься-вертишься — все впустую, — пожаловался сын Азиза-аки.
— Когда их недоставало?
— Никогда! — горячо согласился сын Азиза-аки и, чуточку остыв, продолжал, — я здесь, Касым Каюмович, по делу.
— Слушаю вас внимательно.
— Нагрянули гости.
— К вам?
Сабира-адам, помнится, ожидала в ответ что-то вроде "да, из Ялпыза…", но образовалось иначе.
— Турешарцы. Коллеги, — сын Азиза-аки назвал знакомое для ушей Сабиры-адам учреждение в Турешаре, с которым работники здешнего учреждения поддерживал» связь по той причине, что и там работали историки, в чем-то, кажется, превосходившие местных историков.
— Не сразу сообразишь: радоваться вести или огорчаться, — сказал сын Каюма-аки.
— Тут и соображать незачем — гостей положено встречать, не так ли?
— Положено, — согласился сын Каюма-аки, — С чем жалуют гости к нам из славного Турешара?
— На Ак-Тюбе хотят взглянуть — дадут консультацию.
Ак-Тюбе — развалины какого-то древнего поселения — находился неподалеку от города, у подножья предгорий. В учреждении вот уже более года, если и говорили о чем-то серьезном, то непременно об Ак-Тюбе, потому что в этом Ак-Тюбе шли раскопки, потому что в Ак-Тюбе раскопали настоящее чудо — некую загадочную глиняную бабу. Сабира-адам знала немало о раскопках и глиняной бабе. У бабы голова и ноги оказались на одном уровне — ученые удивились, сочли бабу поверженной, но затем, покумекав, поняли, что никакая она не упавшая, что баба эта с самого начала лежала, а не стояла — значит, люди некогда, давным-давно, в ней, лежачей, а не стоящей видели какой-то понятный им смысл.. О бабе, кажется, прознал весь город, а сын ее, Адылжан, прослышав о чуде, потерял покой, он часто ездил на раскопки — почти всегда с Рахимжаном — написал стихотворение о чуде. И даже разлюбезного супруга заинтересовало чудо — тот также счел обязательным посетить место раскопок. Не поленился — съездил. Было это как раз в те дни, когда неподалеку от Ак-Тюбе рухнул самолет — вот так и сложилось, что разлюбезному супругу, сыну Закира-аки, в одной поездке привелось увидеть и чудо, и беду, ощутить и удивление, и нечто такое, от чего становилось не по себе… Словом, услышав об Ак-Тюбе, Сабира-адам поняла тогда в мастерской сына Каюма-аки, что речь пойдет между земляками о раскопках и о глиняной бабе-чуде.
— Ясно. На красавицу нашу приехали полюбоваться, — сказал сын Каюма-аки, под "красавицей" имея в виду глиняную бабу.
Сын Азиза-аки Ошурахунов не ответил — не было резона: и без того ясно, что гости из далекого и большого Турешара ехали по делу весьма и весьма серьезному. Выдержав паузу, он в свою очередь полюбопытствовал:
— Какая у тебя программа на послезавтра?
— На воскресенье? — удивился сын Каюма-аки. — На день? Легче планировать на пятницу.
— Ты нам нужен, Касым Каюмович, — сказал тогда сын Азиза-аки Ошурахунов, — поедешь с нами в Ак-Тюбе.
— С фотоаппаратом, конечно?
— Естественно, дорогой, — сын Азиза-аки оглядел комнату, задержал взгляд на противоположной стене, оклеенной фотографиями космонавтов, потом перевел взгляд на стену у входа — тут висели фотографии, запечатлевшие работников замечательного учреждения в работе и все — во время экспедиций, на раскопках, в том числе, наверное, и на раскопках в Ак-Тюбе — так вот, оглядел сын Азиза-аки фотографии, сказал:
— Захвати цветную пленку.
— Цветная пленка — дефицит, — слабо возразил сын Каюма-аки.
— Кровь из носа — надо достать из-под земли! — сказал по-русски сын Азиза-аки.
— В лепешку расшибаться не стану, — сказал в тон земляку сын Каюма-аки, — но, не исключено, что у кого-нибудь и отыщется в заначке парочка кассет.
Сын Азиза-аки, удовлетворенный ответом, помнится, хлопнул себя машинально ладонями по колену, собрался встать, но тут вдруг его взгляд остановился на Сабире-адам — ей, помнится, стало не по себе: казалось, сын Азиза-аки разомкнет уста и спросит нечто вроде: "Дочь Негмата-аки, ответьте: в чем различие суннитов от: шиитов?"
Пронесло, слава богу — бывший рабфаковец, один из важных шишек учреждения, Адыл сын Азиза-аки, действительно спросил, но о другом, не имеющем отношения к религии.
— Как у вас, Пазылова, обстоит с искусством, — поинтересовался он, нажимая на "с искусством'', — приготовления плова?
— Хвалиться нехорошо, — довольно быстро нашлась Сабира-адам, — но никто, помнится, до сих пор не ругал мой плов.
— Если мы с Касымом Каюмовичем попросим вас поехать на денек с нами?
— Далеко ли?
— Все туда же, в Ак-Тюбе. — Приготовите плов, да такой, что гости, отведав его, забыли бы о Турешаре, верно, Касым Каюмович? Хвалят плов узбекский и таджикский — мы угостим уйгурским — чем хуже наш, уйгурский, плова узбекского или таджикского, верно, Пазылова? С лепешечками свеженькими, чаем из настоящего самовара.
— Найдется самовар, — подхватила Сабира-адам, вспомнив о самоваре Черепахи — та выставляла его напоказ во время чаепитий с такой гордостью, точно тот был из чистого листового золота.
Сын Каюма-аки отчего-то коротко засмеялся, а сын Азиза-аки полюбопытствовал:
— Самовар электрический?
— Знаю этот самовар, Адыл Азизович — старинный он, тульский, — подключился к разговору сын Каюма-аки.
— Вот и отлично, — подвел как бы итог тогда сын Азиза-аки, поднимаясь с табуретки. — Значит, договорились: будет плов, будет чай, и с фотографиями, кажется, утрясли — так, Касым Каюмович?
Вот так: "Адыл Азизович'' да "Касым Каюмович" — в итоге полное согласие и взаимное уважение, потому что обращение к людям по имени и отчеству — свидетельство — это точно! — самого глубокого уважения.
И — никаких сполохов. Сабира-адам помнит точно: во время встречи в фотомастерской сына Каюма-аки земляков ничто не предвещало беды.
9
Сын Азиза-аки был в рубашке, при галстуке. Рубашка беленькая редкостная, нейлоновая, была растегнута на одну верхнюю пуговицу — то из-за духоты. Запомнилось это вот почему. Ходил сын Азиза-аки в одной рубашке, — к тому же с распахнутым воротом. От редкостной нейлоновой рубашки ниточка в памяти потянулась дальше, и Сабира-адам с удовольствием обнаружила: сына Азиза-аки она лишь однажды видела в светлом с едва заметными розовыми полосками костюме. Было это — да, конечно же, в Ялпызе, казалось тысячу лет тому назад. И вот — пожалуйста! — приснилось… Розовые полосочки, конечно, она не рассмотрела во сне, а вот то, что на нем был светлый костюм, увидела точно. И ишачка разглядела. И телегу-арбу тоже — к чему бы все это?..
Под развесистым старым осокорем на крохотной полянке у ручья дымился очаг. Неподалеку прямо на земле, на лужайке, была растелена узорчатая клеенка — на ней — груды овощей, фруктов, соления, то есть все то, из чего Сабира-адам собиралась образовать дастархан: уже стояли на узорчатой клеенке тарелки с готовым шакаробом — салатом из помидоров, приправленных острыми специями, в центре, возвышалась чаша с лепешками, неподалеку — блюдца с вареньем — словом, достархан был почти готов, оставалось разложить по вазам фрукты, порезать овощи, разделать мясо и приступить к приготовлению плова. Конечно, волновалась: плов — предприятие серьезное, требует особой внимательности, расчета, терпения — помнится, она прокрутила в уме предстоящую работу, "от" и "до", от прокаливания казана, до момента, когда плову необходимо было дать возможность отстояться в собственном пару. Помнится, нет-нет да и поглядывала с некоторой тревогой на Ак-Тюбе, на белесую вершину кургана, видневшуюся из-под листьев осокоря — там, в полутора-двух километрах отсюда находились сейчас те, ради которых готовился дастархан, ради которых колдовала она над пловом, стараясь сотворить его, если не лучше, то во всяком случае ни в чем не уступающим узбекскому и таджикскому пловам, о которых она была наслышана много хорошего, хотя не привелось не только ни разу испробовать, но и ни разу видеть ни того, ни другого. Тянуло на Ак-Тюбе, мучило желание взглянуть — хоть краешком глаза! — на глиняную бабу — столько-то, говорят, в ней загадок, столько-то о ней разговоров! Вот ведь и стихи сочинил о ней Адылжан, правда, заумные — сплошь размышления и видения далекой старины и себя в лабиринтах переулков старинного города, от которого только и остались — то белесый курган, да развалины города под слоем глины. Слава богу, время пощадило глиняную бабу!.. Сабира-адам собиралась в раскаленном масле жарить лук и мясо, как вдруг подкатили сын Азиза-аки с гостями. На двух машинах. Сын Азиза-аки — а он вышел первым — открыл передние дверцы машины, прибывшей следом — помог выбраться высокому полному мужчине. Гостей было трое — двое мужчин и молоденькая женщина. Полный — это ему помог выбраться из машины сын Азиза-аки — по возрасту выглядел постарше других. Да и по учености наверняка стоял повыше, потому что был не то профессором, не то академиком, а может быть и тем и другим одновременно. Она несколько раз слышала, как в обращениях к нему произносились слова "профессор" и "академик". Сабира-адам, помнится, замерла в растерянности, увидев на поляне под развесистым осокорем гостей, и не потому, что те были чересчур уважаемые люди — конечно, не могло не подействовать и это — а потому, что прибыли те намного раньше расчетного, обговоренного времени, потому что у нее дастархан не был готов к принятию гостей. Ей стало не по себе от мысли, что отныне за ее хлопотами над пловом и самоваром, который, к счастью, вот-вот должен был закипеть, будут наблюдать шесть пар глаз. Не считая водителей — эти тут же, уединившись в одной из машин, углубились в шахматы.
Слава богу, волнения оказались напрасными. Гости повели так, что Сабире-адам подумалось: прибыли они сюда, под тень развесистого осокоря у сладкоголосого ручья, не с целью отведать плова по-уйгурски и отпить чайку из самовара Черепахи — а прибыли сюда они с единственной думой о глиняной бабе. Они, кажется, не заметили ее, Сабиру-адам, хотя здесь не было другой живой души кроме нее. Если, конечно, не считать пташек, чирикавших неустанно в ветвях осокоря — пташек и Сабира-адам-то не замечала за делом не шутейным — не до пташек было!
Вот так-то: выбрались люди из машины, сходу заговорили о своем, о глиняной бабе, то есть. На поляне под развесистым осокорем только и слышалось: глиняная баба, да глиняная баба…
И — никаких намеков на желание обедать.
Из спальной комнаты через приоткрытую дверь послышались знакомые звуки — то храпел, наверное, досматривая замечательные сны супруг. Вспомнилось вдруг из той поры, когда она едва-едва привыкала к городской жизни: только — что закончилась первомайская демонстрация, на улицах и площадях, в центре города царило праздничное оживление: толпы людей — у касс кинотеатров, очереди у лотков, киосков, прилавков ярмарочных павильонов, у огнедышащего тандыра, где ловко орудует пожилой самсышник…
А вот и она, Сабира-девчонка.
А вот — голос рядом:
— Глядите! Да не туда — глядите сюда! Видите — сын Закира-аки!
Смысл сказанного подругой не сразу доходит до сознания, потому что тогда она только-только что привыкала к шутливой, немного насмешливой манере дочери Усмана-аки называть людей по отчеству — тот-то сын того-то, та-то дочь того-то.
— Тохтам! — удивилась и одновременно обрадовалась Сабира-девчонка.
— Сын Закира-аки. Да, милочка, вы видите именно их, — исправила и одновременно подтвердила подруга.
— Надо окликнуть парня, — заволновалась Сабира-девчонка.
— Вот этого я вам не советую делать. У сына Закира-аки, милочка, есть глаза и на затылке. Не поняли? Действительно не поняли?.. Да, видели они нас… простите, я хотела сказать "видели они вас"… Просто не решаются подойти. Взгляните — хорош парень! Лихо шагает, не правда ли? Хоть сейчас призывай в Красную Армию! Поверьте моему слову, не пройдет и трех минут и они будут здесь! — Аимхан дочь Усмана-аки взглянула на свои часики, приобретенные недавно, за недельку-другую до первомайского праздника. Замечательные, кстати, часики — помнится, девчонки в те годы первые сбережения тратили на разного рода тряпки, на крепдешины да крепжоржеты, на кофточки да туфельки на высоких каблуках, хотя в туфельках не то чтобы ходить — устоять было невозможно — так вот, дочь Усмана-аки вместо крепжоржетов и туфелек взяла да и приобрела часики с металлическим браслетом — правда, сначала часики, потом браслет — с тех пор не упускала и малейшего повода чтобы взглянуть на них. Вот и тогда она, взглянув на часики, продолжала: — Наберитесь терпения, милочка, сейчас они объявятся здесь.
И, конечно же, как всегда, оказалась права. Минутою-другою спустя за спиною подруг, в хвост очереди, пристроился сын Закира-аки. Стоял, помнится, он с видом человека, озабоченного одним — утолением жажды, казалось, думал он только о стакане морса, казалось, в ту минуту для него не было важнее задачи поскорее добраться до стойки, где шла бойкая торговля прохладительными напитками и пирожными.
Но что это?
Парень "случайно" задержал взгляд на подругах, "удивился'', встал рядом, произнес радостно:
— Вот это встреча! Здравствуйте, девушки! — и отдельно каждой: — Здравствуйте, Аим!.. Здравствуйте, Сабира!..
На что дочь Усмана-аки ответила:
— Здравствуйте, сын Закира-аки!
— Меня, если не ошибаюсь, до сих пор звали Тохтамом, — сказал, покраснев, сын Закира-аки.
— Ах, да! Здравствуйте, Тохтам сын Закира-аки!
— Отчего заладили: "сын" да "сын"? — Мы с вами, дорогая, не в Ялпызе — в городе принято называть по имени. Давно вы в городе?
— С прошлого года, — ответил сын Закира-аки, покраснев почему-то пуще прежнего.
Дочь Усмана-аки, услышав это "с прошлого лета" многозначительно взглянула на подругу: вот де мол, выходит, сразу за вами рванул из Ялпыза.
— И где теперь? Сын Закира-аки назвал знакомую подругам, да и, наверное, всем горожанам, обувную мастерскую в центре города, неподалеку от главного рынка.
— Успели разбогатеть? — не унималась дочь Усмана-аки.
— До богатства ли в наше время! — ответил жалостливо, как и подобает истинному ялпызчанину, сын Закира-аки, но тут же, спохватившись, опять же в духе замечательных ялпызчан, не упустил возможности прихвастнуть: — Хотя должен заметить, с заработками здесь полегче.
— Стало быть, вы в состоянии угостить нас пирожными? Живее сюда, становитесь вместо нас! У меня к вам несколько вопросов, но сейчас, дорогой, главное — пирожные! — молвила дочь Усмана-аки, затем, когда сын Закира-аки, излучая радость, выбрался из очереди с пирожными, она вспомнила об обещанных вопросах — полюбопытствовала: — Почему вы долго не решались подойти к нам? Неужели стеснялись?
Дочь Усмана-аки! Что она сделала с бедным парнем! Вопросы ее, помнится, были подобны горячим головешкам под босую ногу! А что она сделала с ним потом в общежитии!
— Вы влюблены в дочь Немата-аки — не отпирайтесь! — бросила она в лицо парню, низвергнув того в пропасть конфуза.
Сын Закира-аки сидел с опущенной головой, будто обвиняемый перед судом, дочь Усмана-аки стояла у окна и, листая журнал с яркими цветными картинками, во всю потрошила несчастного парня.
— Представляете, сын Закира-аки влюблен в вас! — говорила она подруге, а затем, обернувшись к парню, продолжала:
— Разве не так? Но мало ли кто в кого влюблен! Взгляните на нее и на себя — неужто вы пара?! Кто вы — кто она? Дочь Немата-аки — не девчонка — загляденье! Вот если бы вы были ученым, или летчиком, или инженером, или, на худой конец… парикмахером по женским прическам, тогда не исключено и поговорили бы по-другому. Шутила, подтрунивала над парнем дочь Усмана-аки, но от шутки той, помнится, ой, как несладко приходилось тому! Помнится, сын Закира-аки, слушая ее, то опускал голову, то втягивал шею в плечи, то смущенно похлопывал по коленям, то будто нечаянно трогал на груди у себя цепочку значка "Ворошиловский стрелок" — свидетельство того, что у него, сына Закира-аки, достоинств ничуть не меньше, чем у летчика, ученого, инженера, тем более парикмахера по женским прическам, свидетельство того, что он, сын Закира-аки, как говорят русские, тоже не лыком шит. Сабира-девчонка, слушая подначки подруги, чувствовала себя нехорошо, ей было жаль парня, да так, что, оставшись наедине с собой, она от той жалости великой не смогла сдержать слезы. Плакала она, не догадываясь, что жалость жалости рознь, что можно пожалеть, не опасаясь нехороших последствий, кого угодно, но только не парня, потому что от жалости такой один шаг, а может быть и полшага к привязанностям к человеку, и не просто привязанностям — не исключено привязанностям сердечным. Вот как удивительно складывается жизнь: не будь дочери Усмана-аки с ее подначками, некого было бы жалеть и, стало быть, не было бы ничего из того, что парою месяцев спустя привело к свадебной вечеринке. Скромной, немноголюдной, кстати, праздновали, помнится, ввосьмером: Тохтам — жених, Сабира — невеста, дочь Усмана-аки с мужем, дочь Федора, работница городской почты с кавалером да двое обувщиков-ремонтников — так вот свадьба выдалась не ахти веселой, шумной, но тем не менее ее за праздничным столом, помнится, не покидала мысль: вечеринка эта — самое важное событие в их, Сабиры-девчонки и Тохтама-парня, судьбе… Мимо внимания ее не ускользнуло странное: немало в ее жизни происходило почему-то вопреки желанию душевной подруги дочери Усмана-аки: хотела дочь Усмана-аки видеть Сабиру-девчонку билетершей, подыскала местечко в кинотеатре, а она, Сабира-девчонка, попросилась в швеи, т.е. под ее же, дочери Усмана-аки, крылышко; предложила дочь Усмана-аки на первых порах пожить вместе с ней в частной квартире — Сабира-девчонка предпочла общежитие — не захотела стеснять душевную подругу и ее молодого мужа-милиционера; дочь Усмана-аки желала подруге настоящего жениха — скажем, ученого, летчика, инженера, милиционера или на худой конец, шофера, водителя полуторки, а она возьми да и выйди замуж за сапожника, называвшего себя, правда, гордо обувщиком. К тому же парня ущербного, хромого. Тохтама-Хромого. То есть вопреки пожеланиям дочери Усмана-аки, она избрала себе судьбу, в сравнении с которой, пожалуй, покажутся безобидными судьбы иных героев из индийских кинофильмов — взглянешь порою на разлюбезного супруга — и слезы, казалось бы, сами по себе без всякого принуждения льются ручьем…
— Вы не знаете себе цену, моя прелестная Назыгум, — говорила, помнится, подводя ее к зеркалу, дочь Усмана-аки, — перед таким личиком не устоит ни один артист кино, ни один милиционер! Мне бы такое личико! Какой как у вас, прелестная Ипархан*, носик! Какие щечки! Жемчужины — зубки! Мне бы такие глазки, как у вас! Ах, если бы все это было у меня — клянусь, ни один мужчина не устоял бы передо мной!..
(*Ипархан — легендарная героиня — лицо историческое)
И дочь Усмана-аки, помнится, падала картинно — хоть снимай в кино! — на кровать, изображая влюбленного мужчину, не устоявшего перед красотой Сабиры-девчонки…
А ее "влюбленный мужчина" — вот он! Посапывает во сне в соседней комнате, досматривая сны, которые он, проснувшись, тут же и выкинет из памяти, потому что крайне легкомысленно серьезному человеку, главе семьи, думать, тем более во всеуслышание толковать о таких пустяках как сны, потому что мужчине, кем бы он ни был, подобает думать о деле, потому что видения, эти приснившиеся ворохи трав, арбы и прочее, прочее, прочее — доводы до бабьего трепа.
И только.
Спустя час он встанет, выйдет во двор, даст курам корму, приберет в сарае, хотя там царит порядок, потом попьет чайку и, немного послонявшись по комнатам, отправится к Пучеглазому. Отправиться дабы вручить тому сапоги… То есть, если призадуматься, жизнь идет все дальше, дальше, но кое-что в ней движется по кругу, повторяется — отчего?
10
Историки, как и подобает ученым, говорили о вещах весьма серьезных, не имевших, пожалуй, прямого касательства к замечательной поляне под развесистым осокорем, к явствам на дастархане, к пузатому черепахиному самовару, собиравшемуся закипеть, птичкам, верещавшим о своем, птичьем, на ветвях осокоря — словом, ничему живому и неживому на поляне, избранной Адылом сыном Азиза-аки Ошурахуновым для обеда. Они, кажется, и ее, Сабиру-адам, не заметили. Вернее, не обратили внимание. Но это — к лучшему, потому что в любом деле — каждому свое: кому верещать, кому поварить, а кому и вести ученые беседы. Так даже приятнее: возишься у очага, не замеченная никем, подкладываешь в огонь хворосту и краем уха слушаешь умные речи. И никому нет дела до тебя, ты для людей вроде осокоря на поляне: стоишь без языка, без глаз, без памяти — ну, и стой! — вреда от тебя никакого, а польза не в счет, потому что пользы этой, если призадуматься, на каждом шагу пригоршнями — при всем желании всего не только не возьмешь, но и не учтешь. Говорили ученые о раскопках на Ак-Тюбе — о глиняной бабе. Конечно, многое из сказанного учеными товарищами она не уразумела. Однако главное уяснилось: да, действительно баба оказалась древней-предревней. Более тысячи лет тому назад — подумать только! — сотворили ее люди! Более тысячи лет пролежала она под землей! Действительно являла образ некоего божества — поклонялись ей некогда, как русские ныне иконе. Слушая ученых, она, нет-нет, и вспоминала сына Адылжана, его стихи, пыталась понять: отчего баба так взволновала сына? Отчего он в стихах перенес себя из нынешнего времени в древность — возможно ли, дозволительно ли, нужно ли такое?..
Помнится, историки чуточку заспорили. Сын Азиза-аки сказал, что Ак-Тюбе — развалины древнего города, в котором обитали уйгуры. Почтенный гость, академик, помнится, возразил, не то полюбопытствовал:
— Вы так полагаете?
О! Как взволновало, помнится, сына Азиза-аки это "Вы так полагаете?" Правда, он не подпрыгнул от волнения, не покраснел — старался держаться, но в улыбке его промелькнуло нехорошее.
— Это так, Рустамович… предположение, — сказал он. "Ага, — смекнула Сабира-адам, — академик.. — сын какого-то Рустама-аки. Осталось выяснить фамилию и имя. Впрочем, скорее всего фамилия его Рустамов. Академик Рустамов…"
— Предположений много, — сказал академик, — а истина одна.
— Конечно, — поспешно согласился сын Азиза-аки.
— Надеюсь в диссертации у тебя, — он так и сказал "у тебя", показав взглядом на пузатый портфель, лежавший у ног сына Азиза-аки, — сказано иначе.
— Диссертация — другое дело.
Потом академик сын Рустама-аки сказал что-то об общем достоянии, а сын Азиза-аки сказал что-то тоже в этом духе и минуту-другую на поляне под развесистым осокорем только и слышно было "общее достояние… общее достояние…", потому что она запомнила необычное сочетание слов, правда, не сразу поняв его смысл.
(ВНИМАНИЕ! Выше приведено начало книги)
Скачать полный текст в формате Word
См. также этот роман на уйгурском языке
© Ибрагимов И.М., 1989
Количество просмотров: 2980 |


